
 |
написать письмо |  |
карта сайта |
 |
|
+7 (495) 734-9104 |
RU | EN |
Офисы компании TLS
Офисы TLS на схеме метро 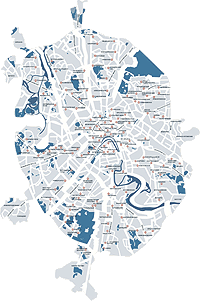
|
Центр подготовки военных переводчиков“На войне, как и в мирной жизни, есть профессии “громкие”, которые у всех на устах и есть профессии “тихие”, обойденные вниманием писателей и кинематографистов. Одной из таких профессий стала служба военного переводчика. Их насчитывалось на 36 фронтах чрезвычайно мало: один на дивизию, в редких случаях - один на полк. Но без этих людей, не только владеющих языком противника, но и знакомых с его военной машиной, умеющих свободно ориентироваться в трофейной документации, вылавливать из эфира нужные сведения, трудно было подготовить и провести бой. “Пленный показал ...” в этих словах оперативных сводок сплав ратного труда разведчика и переводчика. Он был в пекле боя, чтобы тут же, на передовой оперативно допросить только что взятого “языка”, он участвовал в рейдах по тылам противника, вел пропагандистские передачи с первой линии окопов, ходил с парламентерами, чтобы, рискуя собой, спасти жизни сотен и тысяч солдат” (И. Левин «Записки военного переводчика»).
В положении о задачах факультета 1935 г. говорилось: «В результате теоретического и практического обучения факультет должен давать РККА командира разведывательной службы, подготовленного как для работы в штабах, так и для специального использования свободно владеющего одним восточным и одним западным языком (для восточного отделения) и одним западным языком (для западного отделения)». Срок обучения уже составлял 4 года. Одним из тех, кто создавал Восточное отделение и руководил им, был знаменитый русский военный теоретик и ученый Андрей Евгеньевич Снесарев. Именно ему удалось решить сложнейшие организационные задачи по привлечению к преподавательской работе крупнейших ученых-востоковедов Петрограда, Москвы, Ташкента, Дальнего Востока. В их числе В.А. Гордлевский, Рифни, В.Ф. Миллер, Б. Гафаров, А.С. Джафаров, В.С. Колоколов, Н.И. Лянь-Кунь, А.В. Попов, В.М. Ким, С.А. Кондратьева, М. Абдул-Азис, Х.К. Баранов. Географию и военную историю читали А.Е. Снесарев, А.А. Корсун, Погорелов, Простое перечисление этих имен очень напоминает историю востоковедения.
Его формировали военный инженер 2-го ранга Гавриил Андрианович Мартыненко, назначенный приказом наркомата обороны от 21 ноября 1939 г. на должность помощника начальника Военфака по материально-техническому обслуживанию, и майор Сергей Константинович Нарроев-ский, 19 декабря 1939 г. назначенный помощником начальника учебного отдела Военфака. В феврале 1940 г. на должность заместителя начальника факультета прибыл майор Василий Дмитриевич Макаров, вступивший во временное исполнение обязанностей начальника факультета (впоследствии работал начальником педагоги-ческого факультета до 1954 г., ныне полковник в отставке). 7 февраля состоялось торжественное открытие первого в стране языкового военно-педагогического факультета. Председательствовал генерал А.А. Игнатьев (автор широко известной книги “50 лет в строю”). Штатная численность переменного состава нового факультета равнялась 240 единиц, а фактически на всех четырех курсах обучалось 227 слушателей, причем половина из них - девушки. Студентам предстояло обучаться 4 года. Из преподавателей, работавших в эту первую зиму, бессменно продолжали трудиться в институте многие годы доктор филологических наук подполковник О.И. Москальская, А.Г. Лещинский, доцент К.Г. Крушельницкая. Этот небольшой педагогический коллектив с большой любовью и ответственностью взялся за новое дело, с глубоким пониманием отнесся к поставленной перед факультетом задаче по подготовке языковых военных специалистов. Потомок итальянских переселенцев Биязи провел детство в Одессе. В родословной его были яркие личности: бабке - известной русской певице Дарье Лебедевой - Глинка посвятил романс. А дед-петрашевец Александр Иванович Пальм - был выведен на казнь вместе с Достоевским. Казнь была заменена каторгой. После ее отбытия Пальм принимал участие в героической обороне Севастополя в 1854-1855г. Как внук отличившегося защитника Севастополя Николай Биязи учился в гимназии бесплатно. Его интересовал театр. С пяти лет он, выступая на сцене, учился в Одесском театральном училище. В годы 1 мировой войны стал георгиевским кавалером, увлекался спортом, был футболистом, яхтсменом, боксером, велогонщиком, гимнастом, стрелком, легкоатлетом. Был чемпионом России, СССР в стрельбе из боевой винтовки, первым дипломированным футбольным судьей России. Всего в его коллекции было около 70 спортивных дипломов и медалей. Именно ему в июне 1918г. было поручено судить финал первого в истории советского спорта футбольного первенства. В 1948г. судье всесоюзной категории Биязи было поручено быть главным судьей соревнований, посвященных 50-летию отечественного бокса с участием С. Щербакова, А. Грейнера, Н. Королева. Николай Николаевич окончил академию имени Фрунзе. Будучи в 1943 г. зам. командующего Закавказского фронта, он формировал из спортсменов - альпинистов и лыжников ударные стрелковые отряды для борьбы с альпийскими стрелками горно-пехотной дивизии врага. Второй страстью Биязи были языки. Он владел 14 языками, французский и итальянский знал в совершенстве. Эти знания пригодились ему на посту военного атташе в Италии, который он занимал в 1936-38 гг. Кандидат военных наук, он начал форсировать подготовку военных переводчиков. Привлек лучших специалистов: А.Н. Монигетти, пионеров военного перевода А.М. Таубе и Б.Э. Шванебаха. Генерал Биязи научил нас многому. Среди прочего - безукоризненным военным манерам. Они, в его представлении, прежде всего, включали точность. Он никогда не действовал по пословице “Начальство не опаздывает, оно задерживается”, не задерживался и не опаздывал ни на минуту. Но и подчиненным опозданий не спускал. В особый гнев его вводило опоздание минутное. Биязи в гневе понижал голос и начинал говорить холодно - язвительно. Это действовало сильнее крика. Однажды он столкнулся на плацу с группой молодых военных преподавателей. Мы были возбуждены каким-то происшествием, обсуждали его громко, употребляя отнюдь не литературные выражения. Мы еще не успели заметить начальника института и отдать ему приветствия, как он заметил и услышал нас и произнес три слова: “Офицеры! Интеллигенты! Филологи!”. Мы были готовы провалиться сквозь землю”. Со дня образования и до августа 1940г. Военфак подчинялся Управлению военно-учебных заведений НКО, но вскоре его передали в систему учебных заведений Генерального штаба Красной Армии. Важнейшие из них привели в жизнь. На первый курс поступило несколько тысяч офицеров, имевших воинские звания от лейтенанта и политрука до полковника и бригадного комиссара. Заочную подготовку офицеров возглавил заместитель начальника Военфака полковник С.К. Нарроевский. Но из-за начала Отечественной войны, подготовка заочников была приостановлена. Во-вторых, создали базу для массовой подготовки военных переводчиков на случай войны, причем совершенно правильно и своевременно был взят курс на расширение еще в мирное время кафедры немецкого языка, на создание переводческого факультета и курсов военных переводчиков. Огромная работа по перестройке факультета и, особенно, по приспособлению его для подготовки кадров на военное время дали свои положительные результаты. Из маленькой учебной структуры при 2-м МГПИИЯ Военный факультет западных языков (это его новое название) превратился к лету 1941г. в самостоятельное крупное военно-учебное заведение, располагавшее хорошими профессорско-преподавательскими кадрами. С января 1941г. на факультет пришел автор многих научных работ и словарей Александр Михайлович Таубе, занявший должность профессора английской кафедры. Вскоре эту работу возглавила молодой ученый, доцент Зоя Михайловна Цветкова, впоследствии подполковник, профессор, проработавшая в институте почти со дня его основания до 1955г. Осенью 1940г. факультет насчитывал 248 слушателей, а к весне следующего года уже 339. Вот как вспоминал об этом времени генерал Биязи: “1940 год. Получив назначение на должность начальника военного факультета западных языков при 2-м МГПИИЯ, готовившего военных преподавателей, я поставил вопрос о необходимости немедленной реорганизации педагогического факультета, на котором изучались только три языка. Для войны с самого ее начала армии потребуется большое количество военных переводчиков и знания большого количества иноязыков. Вскоре нам удалось выделить факультет из состава гражданского института. На Садовом кольце нашли отдельное, но очень маленькое помещение бывших магазинов и там начали подготовку переводчиков для войны. Преподавателями в то время у нас были З.М. Цветкова, А.А. Барнес, Нельсон, О.И. Москальская, А.В. Монигетти, Н.В. Алейникова, В.А. Красильникова, В.В. Дюшен и ее сестра. Перед нами стояла следующая неотложная задача - создать первый в Красной Армии самостоятельный языковый ВУЗ, в котором велось бы обучение не на трех, а на многих иностранных языках. При этом вставали четыре основные проблемы: определить профиль подготовки слушателей; установить сроки их обучения в связи с угрозой нападения на СССР; какие языки необходимо изучать на факультете и выработать методы преподавания. Мы приняли на учебу студентов, а международная обстановка властно требовала быстрой подготовки хороших военных переводчиков. Однако ликвидировать педагогическую подготовку было бы также близоруким мероприятием, поэтому решено было иметь на факультете два отделения - военных преподавателей и военных переводчиков. Позднее были открыты краткосрочные курсы немецкого языка, для укомплектования которых начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников приказал передать нам две роты курсантов военного училища. Вопрос о сроках преподавания на основных отделениях решился так: на педагогическом - пять лет, на военно-переводческом - два года, на краткосрочных курсах - от трех месяцев до одного года в зависимости от степени знания немецкого языка курсантами. При этом в основном со стороны мы брали студенток (мужчин было мало), знавших язык в достаточной мере и на первых порах немного разбиравшихся в переводе военных текстов. Однако нужных для этого пособий не было и тогда мне и старшему преподавателю Монигетти пришлось срочно составить карманный “Краткий русско-немецкий разговорник” для бойца и младшего командира с фотографиями немецкой военной техники. Редактором был А.В. Любарский. Разговорник был издан Воениздатом в 1941г. Во время войны он оказался столь необходимым, что был издан тиражом 500 тысяч экземпляров, а затем его еще дважды переиздавали, и тираж достиг двух миллионов. На рассвете 22 июня 1941г. фашисты совершили акт вероломного нападения на СССР. Сразу после начала войны факультет перешел на ускоренную подготовку переводчиков. Вскоре в Москву стали поступать первые захваченные на фронте вражеские документы. На факультете было срочно создано бюро перевода трофейных материалов. Руководство этим бюро возложили на слушателя Евгения Гофмана, отлично владевшего немецким языком. Бюро работало в две смены - с раннего утра до поздней ночи. Документов поступало все больше и больше. Нам удавалось быстро и точно их переводить. Еще в 1940г., хотя на факультете было мало помещений, мы все же выделил комнату и в ней оборудовали кабинет звукозаписи с магнитофоном и с прибором для прослушивания граммофонных пластинок. Позднее, уже в институте, в коридорах были установлены репродукторы, при помощи которых на переменах можно было передавать на иноязыках объявления и последние известия. Этот опыт был после войны с успехом применен и в Военной академии им. Фрунзе. В общежитиях также стояли репродукторы и радиоприемники для прослушивания передач на иностранных языках из-за границы. Позднее при помощи кино стали демонстрировать фильмы на иностранных языках. Иногда устраивались встречи на иноязыках с представителями заграничных компартий, гостивших в СССР. Будущих переводчиков важно было научить быстро и разборчиво писать на иностранных языках, как это приходилось делать в боевой обстановке. Учили и печатать на пишущих машинках с иностранными шрифтами. В помощь изучающим иностранные языки клуб практиковал просмотр иностранных картин учебных кинолент, а в фойе проводились настольные игры на иноязыках. Переходя к работе библиотеки, следует сказать, что ее удалось значительно пополнить за счет привезенной из Германии большой иностранной библиотеки с уникаль-ными книгами. На полках имелись также иностранные уставы, наставления, военные учебники и военно-историческая литература. На стенах висели наглядные таблицы и красочные плакаты на иноязках которые брались в классы на занятия.
Первые наборы на курсы переводчиков состояли из выпускников языковых институтов Москвы и высших учебных заведений других городов. Состав курсов в очень короткое время был доведен до 800 с лишним человек. Это были хорошо подготовленные молодые люди с высшим филологическим или другого профиля образованием, стремившиеся поскорее попасть на фронт. Курсы готовили только переводчиков немецкого языка. По языковой линии подготовкой переводчиков руководил старший преподаватель немецкого языка майор Владимир Петрович Ленский (впоследствии начальник кафедры немецкого языка, работал в институте до 1953 г.) На курсах преподавали майоры О.П. Костарева и Н.В. Гейн, капитан А.А. Иванова (выпускники 1941г.) и старший лейтенант Призант, работавшие в институте долгие годы и после войны. Вспоминает Иммануил Левин: “Мы, выпускники средней школы, попали на курсы вчетвером. Трое из нашей четверки погибли. Женя Кашников и Женя Ананьев - в разведке первой военной зимой под Москвой. Миша Любарский дошел до Румынии”. В письмах Любарского родным он писал: “вообще я решил посвятить жизнь военному делу. И та отрасль, по которой я думаю пойти и дальше, особенно интересна тем, что дает очень широкий кругозор, развивает мышление человека, вырабатывает в нем способности анализировать, делать правильные выводы”. Это писал талантливый музыкант, которому педагоги предсказывали блестящее будущее. Война вдохновила его совсем на другое. Приказом от 2 сентября 1944г. по 34 стрелковому корпусу старший лейтенант М.А. Любарский был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Но об этой награде Любарский так и не узнал. 3 сентября он скончался от ран в госпитале. Его похоронили в Констанце. Преподавали нам и наиболее подготовленные выпускники, такие как Е.А. Гофман (впоследствии один из синхронных переводчиков на Нюрнбергском процессе), Л.Ф. Парпаров, А.А. Иванова, О.П. Костарева”. В своих воспоминаниях Паулина Вениаминовна писала: “Начался набор добровольцев в антифашистскую народную милицию. В числе первых добровольцев ушла на фронт и я. Прошел месяц, и мы знали уже о войне столько, сколько не могли узнать за всю предыдущую жизнь. Вскоре часть уже стала батальоном, ... где были в основном ребята из Союза объединенной социалистической молодежи, а также члены политических партий. Сплотить столь разных людей мог только умелый командир Эстельвино... Я стала чем-то вроде интенданта. В той обстановке это оказалось сложной работой... “Я Роман Кармен, кинооператор, ... приехал в Испанию снимать кино и мне нужен переводчик”... Это было мое новое партийное поручение. Началась работа с Карменом. Он снимал, я переводила. Он хотел показать варварские фашистские бомбежки, страдания испанского населения, убитых детей, женщин, стариков, разрушенные города и памятники, героическую оборону Мадрида... В начале октября Роман Кармен и Михаил Кольцов, собственный корреспондент газеты “Правда” в Испании, с величайшим трудом получили разрешение от республиканского правительства посетить Астурию и Бильбао. Лететь пришлось над территорией, занятой фашистами. Наш самолет мог быть в любую минуту обстрелян с земли. Впоследствии Кольцов подробно описал это путешествие в “Испанском дневнике”. Когда мы вернулись в Мадрид, фронт приближался. В начале ноября мне сказали: “Будете работать у Ксанти”... Настоящее имя Ксанти - Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров, чаще его называли просто Хаджи. Сам Хаджи писал: “Зона обороны Мадрида создалась и существовала как самостоятельный фронт. Возглавлял её комитет обороны, во главе которого стоял генерал Миаха... Официально я считался советником при начальнике штаба Рохо, но одновременно становился советником командиров крупнейших соединений, прибывавших для обороны Мадрида... Я был советником в Мадрид-Каталонском корпусе, командиром которого был известный боевик-анархист Буэнавентура Дуррути... Наряду с этим моем ведении было руководство специальной работой по созданию партизанских отрядов для действий в тылу врага, обучение пулеметчиков, подготовка командных кадров”. Учебные отделения укомплектовали слушателями факультета, преимущественно старших курсов. Новые задачи и обстановка вынудили снять теоретические языковые и другие дисциплины (история языка, литература страны, введение в языкознание, психология, педагогика и ее история, латинский и современный русский язык). Вместе с тем как самостоятельная дисциплина был введен военный перевод. Военный факультет был значительно расширен, получил новую структуру и по существу стал языковым ВУЗом Красной Армии. Впервые при Военфаке образовали пять самостоятельных кафедр следующих языков: немецкого; романских - итальянского, румынского, французского и испанского; славянских - сербского, болгарского, польского и чешского; англо-скандинавских - английского, шведского, норвежского и датского; угро-финских - финского и венгерского. При командовании факультета помимо учебного отдела, были научно-исследовательский отдел и адъюнктура на 30 человек. Языковые и другие кафедры замыкались на начальника факультета. Переменный состав объединялся в три факультета - военных переводчиков со сроком обучения 3-4 года, военно-педагогический со сроком обучения 4 года, заочного обучения со сроком обучения 2-4 года. Другая часть переменного состава обучалась на разных по продолжительности курсах. Военный факультет стал центром подготовки военных переводчиков для действующей армии и одновременно языковым центром. Обучение велось на 15 иностранных языках. Из-за отсутствия заявок на переводчиков французского и английского языка, пришлось в ряде учебных групп ввести обучение двум языкам (французский и румынский, французский и итальянский). 15 июля 1941г. факультет произвел второй выпуск 48 военных педагогов, окончивших 4 курс с присвоением им воинского звания техник-интендант 1 ранга. 28 выпускников закончили факультет с отличием, а десять лучших из них зачислили на первый курс адъюнктуры. В приказе по Военфаку от 23 июля отмечалось, что проведенные в июне-июле государственные экзамены показали хорошую подготовку слушателей, особенно на кафедре немецкого языка (начальник кафедры А.В. Монигетти). Общий балл по вынесенным на госэкзаменам дисциплинам составил 4,57. Выпускников направили военными переводчиками на работу в центральный аппарат НКО и Генштаба. Многие из них - подполковник М.В. Кузьминова, майоры Л.С. Куликова и А.П. Егорова впоследствии успешно работали старшими референтами в Генеральном штабе, подполковник Н.Е. Барванова отдала свои знания преподавательской работе и военной академии. Полмесяца спустя, 30 июля, Военфак выпустил еще одну группу слушателей 4 курса в количестве 27 человек - первую группу военных переводчиков, обучавшихся на внештатном переводческом факультете. Все они отбыли на фронт в действующую армию. Сложности военного времени не помешали произвести набор абитуриентов на первый курс и провести переводные экзамены. Учебный год начался 1 июля. На первый курс военфака было принято 100 человек. Половину набора составили студенты первых курсов МГПИИЯ. На втором и третьем курсах большинство обучавшихся имели воинские звания от лейтенанта до капитана, а на четвертом курсе всем остальным слушателям было присвоено звание “техник-интендант второго ранга”. Вновь претерпела изменения структура кафедр, что свидетельствовало о поисках нового и целесообразного в организации учебного процесса. С 1 сентября 1941г. по новому штату было введено семь кафедр. Кафедру марксизма-ленинизма возглавил полковой комиссар В.И. Старчевский. Ведущей стала кафедра немецкого языка, которой руководил А.В. Монигетти, здесь же преподавал профессор А.А. Лепинг. Кафедру английского языка возглавила доцент З.М. Цветкова, а профессорами кафедр были А.М. Таубе и Э.Г. Рудквист. Небольшими по составу кафедрами французского языка, страноведения и военной подготовки руководили О.И. Илия, полковой комиссар Б.Я. Буков. Все остальные языки были представлены объединенной кафедрой иностранных языков. Такая структура факультета сохранилась до создания собственно института. Призыв “Все для фронта!” находил широкий отклик среди личного состава Военфака. Несмотря на чрезвычайно напряженную учебную работу, преподавательский состав и слушатели старших курсов в течение нескольких первых месяцев войны перевели и обработали для Генерального штаба большое количество поступавших с фронта трофейных документов, работая иногда целыми сутками и неделями, не уходя из расположения факультета. Для фронта факультет разработал и издал ряд военных разговорников и словарей: русско-немецкий разговорник, военные разговорники по венгерскому, румынскому и итальянскому языкам, дополнения к немецкому, английскому и французскому военным словарям, учебник немецкого языка для военнослужащих Красной Армии. Так Военный факультет включился в активную и срочную подготовку переводческих кадров для фронта, так оказывал он первую помощь нашим войскам по разгрому фашистских захватчиков. Дальнейшее обучение слушателей в Москве проходило в чрезвычайно сложных условиях. Наступил октябрь 1941г. Наши войска вели тяжелые бои на дальних подступах к столице. Враг рвался к Москве. Личный состав Военфака трудился в эти дни самоотверженно. Слушателей можно было встретить на оборонительных работах в ближних подступах к столице, на дежурствах на крышах зданий и улицах города, в системе МПВО. Выполнение специальных заданий, многочасовая напряженная учеба без сна и отдыха не могли не сказываться на уровне подготовки переводчиков, проводив-шейся и без того в весьма сжатые сроки. В октябре 1941г. последовал приказ НКО СССР об эвакуации Военного факультета при 2-м МГПИИЯ в город Ставрополь на Волге. Для передислокации был выделен специальный пароход. Переезд проходил очень организованной, слушатели проявили высокую дисциплинированность. Факультет сумел захватить с собой в основном всю учебную базу, оборудование учебных кабинетов и многое другое, крайне необходимое для организации учебных занятий на новом месте. Эвакуация проходила с 10 до 18 октября. Из воспоминаний Биязи: “Когда фашистские полчища стали приближаться к Москве, слушатели факультета приняли энергичное участие в проведении окопных работ на подступах к столице. Юноши и девушки работали с увлечением, перевыполняя суточное задание. В это время я снова обратился к маршалу Шапошникову и доложил ему просьбу слушателей об отправке их на фронт, так как они не хотели отсиживаться в тылу. Борис Михайлович, улыбнувшись, на это ответил: “Патриотические чувства и воинственные настроения очень хороши, но на фронте нам нужны сейчас и будут еще больше нужны военные переводчики и не только мужчины, но и девушки. Поэтому надо теперь же эвакуировать ваш факультет на Волгу, заняться ускоренной подготовкой и отправкой в действующие части достаточного количества военных переводчиков. Чтобы увеличить количество переводчиков - мужчин, я прикажу передать в ваше подчинение еще две роты курсантов”. Через два дня на факультет прибыли молодцеватые курсанты, и был получен приказ об эвакуации Военного факультета западных языков в Ставрополь на Волге. 10 октября, ночью, слушатели факультета и курсанты ускоренных курсов военных переводчиков, среди которых находилась группа студентов Московского института истории, философии и литературы, убыли из Москвы на пароходе в неизвестном для них направлении. После нескольких дней плавания, во время которого слушатели продолжали заниматься языками в своих каютах, мы прибыли в Ставрополь”. Строки из воспоминаний И.Левина: “В каютах разместились преподаватели и по праву старшинства - слушатели военфака. Мы, курсанты, навалом заполнили трюмы, из которых еще не выветрился запах рыбы. Питались всухомятку, удобств - ноль. Но нытиков ни одного. А как нас веселил до колик в животе, своими импровизированными концертами тогда еще совсем не народный артист, но уже очень талантливый курсант Володя Этуш. Раза два мы останавливались у каких-то причалов и грузили дрова. Плыли до Ставрополя больше недели. В дороге нас застало полное драматизма сообщение Совинформбюро от 16 октября 1941г. об ухудшении положения на Западном направлении. Решалась судьба родной Москвы. Бурные споры, митинги, яростные протесты. Снарядили делегацию к руководителям Военфака и курсов с требованием немедленно повернуть обратно. Пароход продолжал свой путь, но наутро мы не досчитались в трюме нескольких ребят. Они сбежали на фронт. Дезертиры наоборот. После этого политработники провели с нами обстоятельную беседу и, кроме того, на пароходе установили караулы. Все мы были комсомольцами и уже воинами, принявшими присягу. Мы твердо знали, что в любом случае от фронта нас отделяют не больше двух-трех месяцев. 21 октября прибыли на место”. Прибыв в Ставрополь Военный факультет столкнулся с дополнительными трудностями. Необходимо было разместить личный состав значительно выросшего по численности факультета, оборудовать и заново построить помещения для аудиторий, оснастить учебные и специальные кабинеты, создать минимум бытовых условий. Было невероятно трудно. Вот как об этом вспоминает сам Н.Н. Биязи: “После нескольких дней плавания, мы прибыли в Ставрополь. Нам отвели помещение кумысолечебницы “Лесное”. Слушатели разместились быстро. Помещений не хватало. Достаточно сказать, что в комнате отдыха на втором этаже мы умудрились втиснуть 40 коек для слушательниц. Не лучше было и в других помещениях, но мы оставили свободными клуб со зрительным залом, в котором читались лекции, а по вечерам шли репетиции и давались на иностранных языках концерты самодеятельности. Краткосрочные курсы разместили в самом Ставрополе в пустующем здании школы. Слушатели перешли на самообслуживание. Они отправились заготавливать дрова. Вскоре жизнь вошла в свою колею, начались регулярные занятия по 10 часов в день”. Быстро одеваешься и бежишь на построение. Первое время некоторые девчата надевали сапоги на босую ногу, - от начальства попадало. Какой большой радостью были письма. Писали нам много ученики с фронта. Почтальон привозил письма в мешке и выкрикивал фамилии счастливцев. Чего только не было в этих фронтовых треугольниках - и стихи, и даже объяснения в любви. А какие вечера самодеятельности закатывали. Был свой джаз под управлением Г. Изаксона, были силовые акробаты из пограничников, был даже “умира-ющий лебедь” Сен-Санса, его танцевала жена профессора Таубе, бывшая балерина Нежинская. Слушатели морского факультета лихо отплясывали “Яблочко”. В общем, жили одной дружной семьей”. “Там же в Жигулевских горах, - пишет И. Левин, - мы отметили 24 годовщину Октября. Все курсанты и слушатели в снег и пургу рыли траншеи для газопровода. Вручную кирками и лопатами. На лекционные занятия мы, курсанты, ходили в кумысолечебницу пешком. Помню, маршируя по осенним раскисшим и полузамерзшим дорогам, ребята нашего взвода пели в строю сочиненную мною песню на мотив широко распространенной тогда песенки о “большой крокодиле”: “Шагает наш молодчик, военный переводчик, и он, и он совсем не обучен. Малиновы петлицы, защитны пуговицы, и са... и са... и сапоги под хром”. Из воспоминаний Н.Н. Биязи: “К ноябрьским праздникам слушатели краткосрочных курсов, из числа штатских, были одеты в военную форму и 7 ноября приведены к присяге. Момент был торжественный и волнующий. Слова присяги, как говорили слушатели, проникали в самое сердце. Фронт требовал все новых и новых переводчиков, имевшиеся у нас две курсантские роты быстро таяли. Тогда мы стали набирать на краткосрочные курсы девушек и юношей, изучавших в школах немецкий язык. Наши слушатели получали назначение уже не только в крупные штабы и воинские части, но и в партизанские отряды, нуждавшиеся в людях, владевших немецким языком. Так, слушательница Ольга Костырева работала в партизанском отряде на московском направлении и была награждена медалью “Партизану Отечественной войны”. Остро встал вопрос об учебных пособиях, их не хватало, и факультет начал печатать брошюры под названием “военно-словарный минимум”, так как типографию мы привезли с собой и в “Лесное” из Москвы. Каждый такой словарный минимум состоял из 1000 самых необходимых слов и выражений. Такие словарные минимумы были введены на всех изучаемых на факультете языках. Эти словари были рассчитаны на то, чтобы дать слушателям необходимый минимальный запас слов и выражений: для первого курса - в пределах 600-650 слов, для второго - еще 350-400 новых слов. Минимум состоял из слов, встречающихся в проводимом курсе военной подготовки (уставы, тактика, военная техника) и в кратких военных разговорниках, а также из наиболее употребительных общих иностранных слов и терминов”. Со временем в Ставрополе наладилась нормальная подготовка военных переводчиков. Весь личный состав, воодушевленный победами наших войск под Москвой, Калининым и Сталинградом, в сжатые сроки создал необходимые условия для учебной работы. Не хватало преподавателей. А контингент слушателей постоянно рос. К преподаванию иноязыков на факультете и курсах были привлечены адъюнкты, совершенно прекратившие работу в адъюнктуре, и лучшие слушатели четвёртого и даже третьего курса. Но факультет продолжал расширяться. В феврале 1942г. прибыли и влились в него Орские курсы, которые обогатили факультет и слушательским составом, и преподавателями, в том числе таких языков, в которых факультет очень нуждался. Из прибывших с курсами майор И.А. Лорви - преподаватель финского языка и майор Андрианов - преподаватель румынского языка работали долгое время в институте и после войны. Следует отметить, что Военфак сделал все возможное, чтобы обеспечить фронт кадрами переводчиков. За два года существования факультет и курсы военных перевод-чиков выпустили около пятисот командиров лиц начальствующего состава, из них подавляющее большинство (447 человек) было направлено на фронт в действующую армию. Среди выпускников 156 человек прошли нормальную четырехлетнюю подготовку на факультете, 59 - окончили месячные курсы, 194 - четырехмесячные, 54 - шестимесячные, и 27 - специальные курсы. Факультет направил на фронт 13 человек постоянного начсостава и семь молодых преподавателей. Из всех выпускников 429 человек были со знанием немецкого языка, 36 - английского, по три-семь человек - со знанием французского, итальянского, шведского, норвежского, датского, румынского, испанского, греческого языков. Воспитанники факультета честно и самоотверженно работали на фронте, принимали участие в боевых операциях, десантировались в тыл врага, уходили на работу в партизанские отряды. Многим преподавателям, вчерашним адъюнктам, Л.Ф. Парпарову, Н.В. Алейниковой, Г.И. Изаксон было 17-19 лет. Сергей Львов так вспоминает о своих первых опытах преподавания: “1942 год. Меня предупредили: моими слушателями будут курсанты, уже закончившие общевойсковое училище. Перед ними я робел. Вид мой был отнюдь не бравый. Более чем скромное обмундирование и ботинки с обмотками - сущее наказание. Решил начать с психической атаки. Продемонстрирую несколько примеров военного перевода, потом скажу: “Вот что я умею, и этому научу вас”. Слушатели мои немного немецкий язык знали, но военного перевода не нюхали. Взяв с собой трофейный устав и письма немецких солдат. Схемы организации соединений гитлеровского вермахта, я с замирающим сердцем вошел в класс. Перед дверьми маячил дежурный - выше меня наголову, выправка умопомрачительная, обмундирование какое мне и не снилось. Я взялся за ручку двери: “Ты куда?” грозно осведомился дежурный. - “В класс” “Чего ради? К нам сейчас преподаватель придет!” - “Это я!” “Брось заливать” - начал дежурный, но вдруг осекся, широко распахнул дверь передо мной и гаркнул от неожиданности по-немецки: “Встать! Руки вверх!” вместо “Встать! Смирно!”. Отделение, вскочившее со своих мест, рухнуло на скамьи, давясь от хохота. Растерявшись, и видя перед собой аудиторию из одних бравых строевиков и блистательных красавиц, я, вместо того, чтобы продемонстрировать на примерах в чем состоит работа военного переводчика, сразу сказал: “Сейчас я покажу вам, что умею...” тут у меня распустилась обмотка. Я поставил ногу на табуретку и начал обматывать ею ногу, но продолжал говорить: “И этому научу вас”. Слушатели задохнулись от смеха. “Все погибло, - подумал я с отчаянием. - Появился перед ними как клоун. Это непоправимо”. Но отступать некуда. Делая вид, что не слышу смеха, я приказал: “Раскрыть любой устав на любом месте!” Дежурный раскрыл одну из синих книжек. И я стал переводить с места, сам себе приказав: “В темпе”. Потом проделал тоже самое с выхваченным наудачу трофейным приказом. Особенно впечатлил слушателей перевод трофейного письма, написанного готическим шрифтом. И, наконец, не гладя на схему, отбарабанил структуру двух дивизий вермахта. Словом я заставил своих учеников забыть мою неприличную молодость, гротескно нелепое поведение и даже обмотки”. В 1942 году стал выпускником курсов известный поэт Павел Коган, погибший в разведке под Новороссийском. И сейчас пророчески ярко и сильно звучат его строки: Коган предсказал войну, на которой погиб, за пять лет до ее начала. Погибла летом сорок второго на Юго-Западном фронте переводчица 57 резервной армии Таня Дагаева. На курсы она пришла из глубокой эвакуации, уговорив родителей. “Никто не удивился, увидев Таню на занятиях, - вспоминает И. Левин. - Знали о ее чувствах к Жене Ананьеву и о его чувствах к ней. Они и на войне хотели быть вместе. Красивые, добрые, честные люди. Для долгого и прочного счастья им не хватило одного - жизни”. В эти годы выпускниками института стали О.А. Трояновский (посол СССР в Китае), Ф.Е. Хитрук (режиссер, народный артист СССР), А.П. Мицкевич (писатель-фантаст), Л.Д. Бергельсон (член-корреспондент АН СССР), В.А. Этуш (народный артист СССР). Вот отрывок из его воспоминаний: «Когда я в войну «влез», появилось другое ощущение. Нужно было «дело делать», потому что война, как точно сказал поэт, - «очень трудная работа», и еще - особый быт. Почти три месяца мы, студенты Щукинского училища, рыли противотанковые рвы под Вязьмой, а когда немец подошел совсем близко к Москве, нас вывезли в столицу, и мы снова начали учиться. Помню, играли в Театре им. Вахтангова спектакль «Фельдмаршал Кутузов». На сцене была задействована вся труппа, а вот зрителей в зале оказалось… 13 человек. Это меня здорово подстегнуло. Думаю: «Да, не время сейчас играть» И ушел на фронт добровольцем, несмотря на бронь. Я немного знал немецкий, и поэтому меня направили сначала не на фронт, а в школу военных переводчиков, в город Ставрополь на Волге. По тяжелой осенней воде, ночью, в кромешной тьме, на огромном теплоходе, переполненном людьми, мы медленно отплыли из Химкинского порта 15 октября, накануне печально известной паники, когда казалось, что Гитлер вот-вот возьмет столицу. Сталин, по слухам, находился в Москве, но правительство уже эвакуировали в Куйбышев. Также были эвакуированы все заводы, все стратегические предприятия. Какой-то период в Москве царило безвластие, и, говорят, доходило до мародерства - грабили магазины. Настроение было нервное, мрачное. На теплоходе кроме людей везли еще и селедку. Поэтому в трюме, где полагалось находиться курсантам, стояла невозможная вонь. Я выбрался на палубу. А холода в ту осень наступили рано, дул ветер. И вот, пробираясь по ногам, среди военных я нос к носу столкнулся с Бобой Бродским, моим близким знакомым, будущим знаменитым искусствоведом, юношей странным, экстравагантным, оригинальным. Потом к нам присоединились знакомые по общей молодежной московской компании: Виталий Щерб и Семен Черток. Мы болтались по всем трем палубам, пока окончательно не замерзли. И нашли-таки тихий, вблизи отопительной трубы, закуток. Он был «свободен от постоя», потому что находился прямо у входа в туалет и выхода на палубу. Мы даже сняли верхнюю одежду - так тепло было в нашем убежище. И вот только мы легли, как в роскошном коридоре первого класса щелкнула дверь купе, и по лестнице послышалось характерное цоканье и скрип чьих-то подбитых подковами сапог. Бродский съежился и прошептал: «Генерал» «Ну и что?!» - спросил я, уже засыпая. «Надо встать», - лихорадочным шепотом ответил Боба. Я пробовал уговорить его не делать этого. Но он поднялся. Появившийся из пароходных глубин генерал очень удивился, увидев перед собой долговязого босого юношу, стоявшего по стойке «смирно», с рукой, поднятой к непокрытой голове. Генерал удивился, но ответил на приветствие. И пока он пребывал в туалете, Боба, вытянувшись в струну стоял по стойке «смирно». Когда все было кончено и генеральские шаги затихли внизу, я спросил своего приятеля: «Боба, почему ты так боишься генералов?» Он, к армейской жизни органически не способный, но не потерявший в непривычной обстановке чувства юмора, ответил: «Потому что генерал может меня арестовать, а я его - нет...» На курсах под Ставрополем среди курсантов было много детей высшего командного состава, которых родители таким образом спасали от фронта. Многие из них там задерживались. Преподавали нам, в основном, люди очень интеллигентные, хорошо знающие языки. Помню среди них обрусевшего немца Шванебаха и молодого капитана Л.Ф. Парпарова, жившего прежде с родителями в Германии и знавшего немецкий язык как родной, так как его отец Федор Карпович Парпаров был резидентом нашей разведки в Германии. Были совсем молоденькие девушки, недавно окончившие Институт иностранных языков и весьма отличающиеся от штатных преподавателей. Помню маленького коренастого заведующего учебным отделом майора Макарова и его очень красивую жену, заметно выше его ростом, спортивного вида, всегда прекрасно одетую. Возглавлял курсы генерал-майор Н.Н. Биязи, колоритная фигура, бывший советским военным атташе в Италии. Располагались курсы неподалеку от Ставрополя в лесу. Спустя двадцать пять лет после войны, сопровождая болгарскую делегацию в Тольятти, я не мог отказать себе в желании взглянуть на эти места. Конечно, все было запущено, обветшало и пришло в негодность. Проучился я на курсах четыре месяца. И судьба, то есть война, еще раз свела меня с Бобой Бродским (Борис Бродский, искусствовед), и случай снова оказался очень смешным. А потом мы увиделись только в мирной жизни. Наша учебная рота жила в селе, а здание, в котором мы учились, находилось на территории бывшего туберкулезного санатория, в трех-четырех километрах от села. Там же, в санатории, располагалась и кухня. Раз в неделю у нас был выходной. Рота отдыхала в деревне,а обед двое дневальных должны были четыре километра тащить из санатория на себе. Дело это очень непростое. Доставляли обед так. Я, например, в правой руке тащил мешок с буханками хлеба, а левой держался за дужку тяжелого бачка с кашей. Мой напарник одной рукой тоже держался за дужку, а другой нес ведро с супом. На компот, то есть на третье «блюдо», рук уже не хватало. По договоренности с ротой дневальные компот съедали на месте, ведро - на двоих. Правда, ели только гущу. Сладкую юшку приглашали выпить «корешей», из тех, кто попадался на глаза в санатории. Однажды за этим актом поедания компота нас застал политрук и немедленно отправил на гауптвахту. А на гауптвахте уже сидел тоже учившийся на наших переводческих курсах Бродский со своим напарником, евреем 1ефтером из города Горького. М.Я. Гефтер был глуп, но обладал чувством юмора. Этот юмор их и погубил. Дело в том, что по заданию начальства будущий искусствовед Бродский взялся рисовать огромный портрет Сталина. Для того чтобы «правильно разводить белила», Боба ежедневно требовал литр молока. Начальство беспрекословно молоко отпускало - для Сталина-то! А они с М. Гефтером его выпивали. Все шло очень хорошо, но когда сломался деревянный подрамник и Боба заявил, что для его склейки необходим килограмм творога, тут уж М. Гефтер не выдержал, упал на землю и чуть не умер от смеха. Начальство насторожилось, провело расследование, консультации и осознало, что его дурят. Так оба, «портретист» и подмастерье, загремели на гауптвахту. В феврале 1942 года я получил назначение в Северо-Кавказский военный округ. Почти тридцать суток, с пересадками, на перекладных я добирался до города Армавира, где находился штаб округа. Поначалу меня привлекали в качестве переводчика для расшифровки каких-то нехитрых документов. Но вскоре, поскольку я был все время на виду назначили заместителем начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, который должен был оборонять Ростов. Пока война шла далеко от Ростова, жизнь у меня была относительно вольной. А через месяц после моего прибытия немец прорвал Воронежский фронт, и вся лавина отступающих армий двинулась через нас на Кавказ по единственному мосту, который находился в расположении нашей части. Мне пришлось пройти (пройти - это слабо сказано) от Ростова до Тбилиси и от Тбилиси до Токмака - это такое местечко в Нижнем Запорожье. Вот тогда я понял, на что способен человеческий организм. Когда брали Азов, все наступали и наступали, обоз с едой отстал, а у нас была только пшенная крупа. Ее-то мы целый месяц и ели. Утром поедим супчик из пшенки и выпьем чаю (читай - воду), в обед пшенную кашку, на ужин то же меню. До сих пор пшенку ненавижу. Мы все время недосыпали. Помню, идем как-то ночью по узкому карнизу скалы. Дождь, на мне румынская плащ-палатка, которая от воды и мороза окончательно задубела. Стараюсь не заснуть, внимательно смотрю на маячащую впереди спину. И все равно отключился. А очнулся лишь оттого, что спина впереди исчезла. Колонна свернула в сторону, а я, полусонный, продолжал идти в прежнем направлении. Не проснись я в ту секунду, упал бы в пропасть. В 1943 году был еще один памятный случай, связанный со сном. Я бесконечно долго допрашивал пленного в присутствии командира дивизии (я знал немецкий язык и служил переводчиком), ужасно устал, и меня отпустили отдохнуть. Захожу в соседний дом, а там - не поверите! - наши командиры вместе с пленными немцами, которых недавно допрашивали - всего человек шесть, спали крепким сном. Кто вдоль кровати, кто поперек, кто на полу. Было такое ощущение, что нет никакой войны, что на дворе вовсе не 1943 год, а эти спящие люди не враги друг другу. Для меня это был, наверное, самый значимый эпизод войны. Я впервые задумался над вопросом: Кто такой противник? Такой же человек, как и я, только гимнастерка у него другая». Из воспоминаний Н.Н. Биязи: “Весной 1942г. мы получили известие, что из Средней Азии к нам в Ставрополь прибывает Военный факультет восточных языков, входящий в состав Московского института востоковедения. Было решено образовать единый Военный институт иностранных языков Красной Армии. Слушатели-западники устроили им теплую встречу. С трудом удалось разместить восточников в самом городе, так как мест в “Лесном” уже не было. По окончании слияния факультетов я передал командование полковнику Степанову. А сам отпросился на фронт и вскоре из Москвы убыл на Северный Кавказ”. Факультет восточных языков был сформирован в Москве в июле 1940г. по приказу НКО СССР от 27 июля. Он помещался на Маросейке в доме № 2-15. Задачи, поставленные перед факультетом в приказе НКО, были сформулированы следующим образом: “...подготовить для Красной Армии хорошо знающих язык, практических работников по странам Востока (Япония, Китай, Монголия, Афганистан, Иран, Турция, Арабские страны, Индия)”. Командовал факультетом полковник Сергей Николаевич Степанов, назначенный на эту должность приказом НКО от 16 июля 1940г. Военным комиссаром факультета был батальонный комиссар Ф.И. Дюжилов. Активное участие в комплектовании Военфака при МИВ принимал майор Б.В. Звонарёв, временно исполнявший обязанности начальника факультета до прибытия полковника Степанова. В первый 1940-1941 учебный год на младшем курсе было три китайские, четыре японские, три турецкие, две иранские, одна афганская и одна индийская группы. На втором курсе обучались три китайские, пять японских, одна турецкая, две иранские и одна монгольская группы. Два старших курса имели немного слушателей. В апреле сорок первого года открылось заочное отделение, на которое было набрано 610 кадровых офицеров в звании от лейтенанта до полковника. В состав Военфака входило и морское отделение, впоследствии (при создании института) реорганизованное в факультет Военно-Морского флота. В октябре 1941г. Военфак при МИВ был эвакуирован из Москвы в Фергану. К этому времени факультет значительно расширился, получил большую самостоятельность. В его составе был развернуты кафедры и соответствующие отделы, свойственные каждому ВУЗу. Для преподавания были приглашены лучшие специалисты из МИВ. В Фергане на факультете из числа профессорско-преподавательского состава работали Н.И. Фельдман, Ясуко Катаяма, Д.А. Магазаник, А.И. Фомин, В. Сорока, С. Сейфуллин. Кафедрой японского языка руководил уже тогда хорошо известный ученый - профессор Н.И. Конрад (ныне академик), кафедру китайского языка возглавлял Б.С. Исаенко. Военный факультет при МИВ был расформирован в июне 1942 г., а его постоянный и переменный состав прибыл в Ставрополь на доукомплектование уже функционировавшего Военного института иностранных языков (ВИИЯ). Институт стал полноценным военно-учебным заведением Красной Армии, в котором преподавалось 28 иностранных языков. Установлены были следующие сроки обучения: для обоих факультетов - 3 года, для курсов переподготовки - 1 год. Центрами учебно-методической работы и научно-исследовательской работы стали кафедры. Их было тринадцать. Четыре из них - основ марксизма-ленинизма, страноведения, военной подготовки являлись общими для всех факультетов и курсов переподготовки. Цикл иностранных языков объединял девять языковых кафедр. С сентября 1942 г. в штат дополнительно была введена кафедра русского языка и теории языка. В сентябре 1942 г. приказом НКО СССР от 23 августа в составе ВИИЯ было создано специальное отделение ГлавПУРККА с общей численностью переменного состава 300 человек. Позднее, после войны, это отделение был развернуто в четвертый факультет (ГлавПУРа). Учебный год в институте начался с 1 июля. На первые курсы было зачислено по первому факультету - 157 слушателей, по 2-му факультету - 36. К этому времени укомплектованность института постоянным и переменным составом была близка к штатной. Так, осенью 1942г. в ВИИЯ КА насчитывалось постоянного начсостава и воль-нонаемных преподавателей - 182 человека, адъюнктов - 48, слушателей факультетов - 1039, курсантов отделения ГлавПУРККА - 262, курсантов военно-морского отделения - 32 и около 150 человек обслуживающего персонала. Первым начальником института был генерал-майор Н.Н. Биязи, бывший начальник Военфака при МГПИИЯ, военным комиссаром института - старший батальонный комиссар Петр Николаевич Бабкин. Петр Николаевич начал войну комиссаром 24 стрелковой дивизии. Был тяжело ранен. После госпиталя назначен на должность военного комиссара. Приказом НКО от 30 апреля заместителем начальника ВИИЯ назначен полковник С.Н. Степанов. С 16 июля 1942 г., после вызова генерала Н.Н. Биязи в распоряжение Генштаба, начальником института был назначен полковник С.Н. Степанов, руководивший институтом до 1944 г. и впоследствии погибший на фронте, будучи начальником штаба корпуса. С 1944 г. начальником ВИИЯ КА снова был назначен Н.Н. Биязи. Из воспоминаний Н.Н. Биязи: “В 1944г. я снова был назначен начальником Военного института иностранных языков. Организационно он тогда состоял из следующих факультетов: педагогического, переводческого западных языков, переводческого восточных языков, краткосрочных курсов немецкого языка. Для руководства научной работой и консультаций удалось привлечь видных ученых страны: крупного филолога-китаеведа академика Василия Михайловича Алексеева, автора многочисленных трудов по истории китайской литературы, фольклору и переводам; востоковеда академика Юлиана Игнатьевича Крачковского, являвшегося профессором Ленинградского университета и членом Арабской академии наук в Дамаске, автором научных трудов по эфиопской и арабской филологии, большим знатоком арабских рукописей; выдающегося ученого-египтолога академика Василия Васильевича Струве, одного из основоположников советского востоковедения, крупного исследователя истории и культуры народов древнего мира; востоковеда академика Владимира Александровича Гордлевского, большого специалиста по турецкому языку, литературе, фольклору и по средневосточной истории Малой Азии индолога академика Алексея Петровича Баранникова, знатока индийской филологии и индийского литературоведения; члена -корреспондента АН СССР Владимира Федоровича Шишмарева; лингвиста, Героя социалистического труда, академика Ивана Ивановича Мещанинова, специалиста в области языкознания, урартского языка и письменности; лингвиста академика Сергея Петровича Обнорского, исследователя современного русского языка и истории русского литературного языка; лингвиста академика Льва Владимировича Щерба, специалиста по общей фонетике русского, славянских и романских языков. Для военного переводчика главным был опрос пленного и перебежчика в условиях работы в крупных штабах и на передовой линии фронта, а также разговор с местными жителями, как во временно оккупированных противником странах, так и на его территории. Во всех случаях подготовки мы требовали твердого знания грамматики и накапливания запаса нужных слов, а также знания идиоматики и военного жаргона. Преподаватели знакомили слушателей с историей изучаемого языка, методикой преподавания, более глубоким изучением грамматики. Слушатели старших курсов педфака вели практику преподавания в подшефной школе, на краткосрочных курсах и на младших курсах всех факультетов института. Всегда остро стоял вопрос с учебными пособиями, но вскоре от рукописных заданий мы перешли к заданиям, напечатанным на машинке с русским и иностранными шрифтами, а затем к материалам, издаваемым в своей институтской типографии. Общие учебники были, но в них отсутствовал нужный нам военный элемент, поэтому мы приступили к изданию своих учебных пособий, военных русско-иностранных словарей, словарей военного жаргона и разговорников”. Они вызывались обстановкой, потребностью действующей армии в кадрах военных переводчиков и дальнейшими, перспективными планами строительства вооруженных сил. В феврале 1943г. численность переменного состава была сокращена до 1000 человек. Часто изменялись названия отдельных курсов, кафедр и других подразделений.Порою сокращался или увеличивался их количественный состав, менялись преподаватели и специалисты - одни уходили на фронт, других отзывала Москва на работу в центральный аппарат НКО, но какие бы не происходили изменения, и независимо от них, фронт постоянно пополнялся новыми квалифицированными кадрами военных переводчиков. Все они были воспитанниками нового института - Военного института иностранных языков. Вспоминает Иммануил Левин: “Работали с нами штатные преподаватели и наиболее подготовленные выпускники. Дело было абсолютно новым, уже в первые месяцы войны вышел “Краткий русско-немецкий военный разговорник”, составленный Н. Биязи и А. Монигетти. Им широко пользовались на фронте бойцы и командиры. Тогда же Биязи создал актуальнейшее пособие: “Техника допроса пленного”. Не могу не вспомнить и “Краткий немецко-русский словарь бранных слов и крепких словечек”. Известны случаи, когда наши разведчики в немецкой форме, изучив лишь несколько солдатских выражений, проникали далеко во вражеские тылы. Естественно, в таких случаях, в группе находился хотя бы один человек, хорошо владевший языком. Трудно поверить, что в тяжелейших условиях передислокации, острой нехватки кадров, типографских рабочих и самодеятельной “издательской базы”, “хозяйство” Биязи за первые полгода войны выпустило около 20 учебно-практических пособий. Интересна оценка работы ВИИЯКА старшим инспектором Красной Армии по иностранным языкам генерал-майором А.А. Игнатьевым, побывавшем в апреле 1942г. в Ставрополе: “Кратковременное посещение не может быть приравнено к инспектированию. Хорошее моральное состояние личного состава, как преподавательского, так и слушательского: значение поставленной перед институтом задачи вполне осознается даже на младшем курсе, составленном по преимуществу из женской молодежи. Внешняя военная дисциплина замечаний не вызывает, несмотря на разнохарактерность населения “Лесного”. Общий вид военного лагеря соблюден. Языковые достижения указывают на ту степень усердия и прилежания, которая соответствует важности момента. В этом отношении были осмотрены занятия 2-х групп курсантов на курсах переподготовки (курсы переводчиков), составленных из более слабых курсантов, оставшихся от неоднократных посылок на фронт. Отмечается живое ведение урока (преподаватель - техник-интендант 1 ранга Розенталь) исключительно на немецком языке, овладение курсантами, хотя и в замедленных темпах, разговорной речью; в этом отношении, несмотря на более низкий уровень общего развития, переводчики превзошли уже большинство слушателей военных академий мирного времени. Создание и постановка дела курсов военных переводчиков в столь короткий срок, возможны были только благодаря исключительной энергии генерал-майора Биязи Н.Н. Переходные экзамены слушателей на 1 факультете. Немецкий язык 3 учебное отделение. Достигнутые в короткий срок прекрасные результаты объясняются хорошей работой вербовщиков и отличной работой преподавательского и слушательского состава. Несмотря на ограниченность общего запаса слов, в особенности глаголов, все слушатели овладели уже военно-технической терминологией и отчасти тактической. Произношение за редким исключением уже поставлено правильно и исправление фонетики не требуется. 3-й курс. Английский язык. Отмечается совершенно свободное владение английской устной речью. Характерным доказательством этого явились также письменные работы, в которых, как это не странно, переводы с русского на английский были сделаны лучше, чем с английского на русский. К недостаткам, еще не изжитым в институте, в отношении учебного процесса, следует отнести недостаточную связь кафедры страноведения с языковыми кафедрами, объясняемую, быть может, недостаточным интересом самих языковых преподавателей к политическому, социальному и пр. строю стран изучаемых языков. (Слушатель 3 курса не знал о значении религиозной борьбы в Индии, о разноплеменности населения Индии). Доминионы Англии, столь важные элементы в мировой войне, не пользуются должным вниманием со стороны английской кафедры. Понятие о политическом и социальном устройстве иногосударств ограничено данными, которые можно найти в календарном справочнике. Прекрасное знание языка дает возможность использовать слушателей на любом поприще, но этому может препятствовать недостаточное знакомство их со страной, её социальной и политической структурой. Быть может, за это отчасти несет ответственность и кафедра основ марксизма-ленинизма. Надо знать и врагов, и союзников. В отношении постановки преподавания курсов тактики, ввиду перерыва занятий на экзаменационной период, отметить чего-либо конкретного не удалось. Однако принятые решения по вопросу улучшения качества военной подготовки, представляются крайне целесообразными. Новая крупная задача, поставленная перед коллективом, в связи с развертыванием института, несомненно, будет разрешена, благодаря наличию энергичных руководителей, в частности, только недавно назначенный на пост военного комиссара ст. батальонный комиссар Бабкин Петр Николаевич успел за короткий срок не только ознакомиться с постановкой дела, но и содействует всеми средствами к поднятию общего культурного уровня слушателей, что, несомненно, остается еще участком, на котором надо много поработать”. Летом 1942 г. фронт двинулся на запад. Зима 1942-1943гг. завершилась победой Красной Армии в битве на Волге. Из рук противника была вырвана стратегическая инициатива. Наши войска развернули решительное наступление на огромнейшем фронте - от Ленинграда до Кавказа. Период 1941-1943 гг. в существовании и учебной деятельности института был характерен тем, что обучение слушателей, с учетом требований войны, шло беспрерывно. Учебных лет как таковых не было. Никакой передышки, никаких перерывов в учебном процессе. Выпуск слушателей не производился. По указанию Генштаба они командами направлялись на фронт в качестве военных переводчиков. Почти еженедельно, сначала на факультет, а потом в институт поступали заявки с требованием срочной отправки на фронт такого-то количества переводчиков. В документах того времени можно читать предельно краткие, свойственные военному положению, распоряжения Москвы по телеграфу: “направить в наше распоряжение 14 переводчиков”, “срочно подготовить группу переводчиков, тщательно проверьте здоровье”, “доложите о ваших возможностях дать фронту переводчиков”. Запросов очень много. Время было тяжелое, и это хорошо понимали в институте все: и слушатели, и преподаватели. Уже к концу 1942 г. почти полностью были посланы на фронт слушатели старших курсов, а затем и второй курс. Установленный для института трехгодичный срок обучения, как правило, не соблюдался. Подготовка велась по сокращенным программам, направленным на быстрейшее практическое овладение иностранным языком. Большую помощь в деле подготовки переводчиков оказывали преподавательскому составу адъюнкты и остававшиеся слушатели старших курсов. Военфак и институт дали фронту за три года войны 2,5 тысячи военных переводчиков, в том числе по годам: до 1943 г. - 1092, в 1943 г. - 774, в 1944 г. - 658. Со всеми убывшими на фронт слушателями институт поддерживал непосредственную связь, ведя активную переписку. Слушатели писали о затруднениях, которые они встречали в своей работе, давали советы по улучшению подготовки переводчика, присылали много ценных образцов различных трофейных документов. Все это использовалось в практической работе института, подготовке последующих групп переводчиков на факультетах и различных курсах. Так складывалась собственная школа подготовки военных переводчиков. Одна из важнейших задач была связана с ведением допроса военнопленных немецкой армии. Известно, что военнопленный солдат, офицер и тем более генерал всегда являлся важнейшим источ-ником информации о противнике. Из их показаний раскрывались планы и замыслы врага, устанавливались численность и боевой состав соединений и частей противника, группировка его сил и средств, размещение штабов, обеспеченность войск противника продовольствием, боеприпасами и другими видами снабжения, выяснялось политико-моральное состояние личного состава противника. Однако не всякий пленный может или захочет дать исчерпывающие ответы на интересующие вопросы. Это зависит от осведомленности пленного, его принадлежности и занимаемой должности. Роль военного переводчика при допросе пленного весьма ответственная. Он должен в совершенстве владеть методом двустороннего перевода, уметь точно и правильно перевести на язык противника те вопросы, которые задает офицер, производящий допрос. Так же точно и правильно военный переводчик обязан перевести ответы пленного на русский язык. После допроса военный переводчик составляет и грамотно оформляет протокол допроса военнопленного. Для успешного решения задачи по допросу пленного военному переводчику нужно твердо знать организацию и вооружение частей противника. Его тактические принципы, основы наступательного и оборонительного боя. Военный переводчик также должен знать военно-техническую терминологию, топографические знаки и тактические условные средств борьбы. Как показал опыт войны, от военного переводчика требуется глубокое знание оперативно-тактической обстановки на фронте, умение анализировать обстановку и делать по ней правильные и обоснованные выводы. Только при этом условии военный переводчик сможет успешно решать задачи по допросу военнопленных. В начале войны молодые переводчики не обладали достаточными знаниями. Вспоминаю, как в декабре 1941 г. к нам в штаб Калининского фронта прибыли военные переводчики, только что окончившие Военный факультет иностранных языков, - лейтенанты Глускина Вера, Герасимова Ольга, Леднева Вера, Модылевская Елена, Кокотько Зоя, Алексеева Галя. С первого же дня им пришлось окунуться в практическую работу, и, конечно, они встретили большие трудности из-за того, что недостаточно знали организацию частей и вооружение противника. К счастью, среди военных переводчиков были хорошо подготовленные опытные люди, которые проводили занятия с молодежью, -это капитаны Щулов, Шейман, Фигельман (последние двое были людьми пожилого возраста, добровольно ушедшими в армию; они прекрасно владели немецким языком). Особенно ценными качествами обладал военный переводчик капитан Шулов. Кроме отличного знания немецкого языка, он в совершенстве владел графикой и умел отчетливо вести рабочую карту о противнике. Шулов обладал выразительной, четкой, ясной и лаконичной речью. Он умело составлял различного рода справки с обоснованными выводами. Впоследствии его назначили офицером-направленцем в отделение информации. При допросе пленных не исключалась возможность ложных показаний с целью дезинформации нашего командования. Поэтому от допрашивающего офицера и военного переводчика требовалось повышенная бдительность и перепроверка показаний пленного. Запомнился такой случай ложных показаний немецкого пленного в период подготовки Кенигсбергской операции в сорок пятом году. 1 апреля на сторону наших войск перешел солдат, который на допросе в штабе 2-й гвардейской армии показал, что он принадлежит к 330 штрафному батальону. По его словам выходило, что немецкое командование готовит наступление из района северо-западнее Кенигсберга с целью отрезать наши войска, прижать их к заливу Фриш-Гаф и затем уничтожить. Пленный также показал, что в районе Алексваген сосредоточено для этого 175 танков. Получив такие сведения, наше командование, естественно, обеспокоилось и приказало немедленно доставить пленного в штаб Земландской группы войск для тщательной проверки его показаний. В ходе допроса было установлено, что пленный был специально направлен в расположение наших войск с целью, дать сведения дезинформационного характера. На каждого допрошенного военнопленного составлялся протокол допроса, в котором освещались различные вопросы, в том числе и такие: время и место захвата в плен, принадлежность к части и подразделению, фамилия и имя, год и место рождения, год призыва в армию, образование, боевой и численный состав подразделения, его боевая задача, характер оборонительных сооружений, место расположения огневых средств, командного пункта, характеристика командного состава политико-моральное состояние солдат, офицеров и другие вопросы. При оформлении протокола допроса особое внимание обращалось на его краткость, грамотность и последовательность изложения. В конце протокола делались краткие выводы с оценкой полученных на допросе сведений. Вторая немаловажная задача, возлагавшаяся на военных переводчиков, состояла в переводе трофейных документов - солдатских книжек, приказов, распоряжений, всевозможных инструкций, рабочих и отчетных карт, сводок, солдатских писем. Эти документы, как источник информации, приобретали весьма важное значение. По содержанию захваченных документов вскрывались планы противника, нумерация его частей, устанавливался боевой и численный состав, вскрывалась группировка его сил и средств. В минувшую войну существовал порядок, при котором все документы, захваченные у противника, в любых условиях обстановки доставлялись в штабы частей, соединений и объединений. В армейских фронтовых штабах эти документы сосредоточивались в информационном отделении разведотдела. Военные переводчики обязаны были разобрать трофейные документы и систематизировать их, распределив по важности и срочности, после чего они переводились на русский язык. Работа военных переводчиков по систематизации и переводу трофейных документов чрезвычайно ответственна. Ее выполняли наиболее подготовленные, хорошо знающие обстановку старшие военные переводчики. На военных переводчиков возлагались также задачи по составлению рефератов на определенные темы. Реферирование - одна из важнейших обязанностей военного переводчика. Опыт показал, что с задачей реферирования успешно справлялись те переводчики, которые систематические повышали свои языковые знания, следили за состоянием и развитием тактических принципов, умели правильно оценить то новое, что появлялось у противника, умели обобщать и анализировать многочисленные сведения о противнике, поступающие из различных источников, от различных видов и средств разведки. От военного переводчика-референта требовалось умение из многочисленных материалов и разрозненных данных, иногда противоречивых, отобрать то главное и существенное, что можно положить в основу определенных выводов. Часто на военных переводчиков возлагалась задача по составлению реферата на какой-нибудь документ противника. Так, зимой 1941г. нашими разведчиками был захвачен чрезвычайно важный документ штаба 9 немецкой армии, действующей в районе Ржев-Сычека-Вязьма. Документ на двадцати страницах назывался “Зимняя битва за Ржев”. В нем излагался ход операции войск Калининского фронта зимой 1941-42гг. и бои за город Ржев, давалась оценка действий наших войск по окружению Ржев-Сычевской группировки немцев. Захваченный документ представлял большой интерес, поэтому было приказано немедленно составить реферат, изложив существо документа на 4-5 страницах. Эта работа была возложена на старшего переводчика лейтенанта Герасимову Ольгу, воспитанницу нашего института. Она блестяще справилась с возложенной на нее задачей, составив реферат с кратким изложением существа документа. Военные переводчики для работы прикреплялись к офицерам-направленцам. Направленец - это оперативный офицер информационной службы, отвечавший за определенные операционное направление, на котором, как правило, действовала одна общевойсковая армия фронта. Военный переводчик, оказывая ему помощь, выполнял задачи по изучению частей и соединений противника, вел рабочую карту, составлял донесения и сводки. Опыт минувшей войны подтвердил правильность такой организации работы военных переводчиков. Отдельным военным переводчикам приходилось выполнять чрезвычайно ответственные задачи, участвуя в группах советских парламентеров, направляемых в стан врага для вручения ультиматума, а также для переговоров с ответственными представителями командования противника. На нашем фронте такие парламентеры направлялись для вручения ультиматума о капитуляции при окружении калининской группировки немцев в июне 1942 г. при окружении витебской группировки в июне 1944г. и кенигсбергской в апреле 1945 г. Военные переводчики участвовали в качестве парламентеров при окружении сталинградской группировки в 1943 г., будапештской в феврале 1945 г. В состав парламентских групп назначались переводчики, хорошо подготовленные в языковом и политическом отношении, смелые, решительные и готовые на жертвы. История знает случай, когда немецко-фашистское командование, поправ нормы международного права, подпустив наших парламентеров на близкое расстояние, приказало открыть огонь и расстреляло их в упор. Весь мир осудил этот преступный акт немецких фашистов. В годы минувшей войны военные переводчики выполняли и ряд других заданий, выполняли честно и добросовестно, как подобает воинам. За боевые заслуги перед родиной многие из них награждены орденами и медалями, а отдельные удостоены самого высокого звания Героя Советского Союза”. В годы войны переводчики сумели найти свое место в штабной деятельности и тем самым сникать себе заслуженное уважение и авторитет. Повседневный контроль со стороны вышестоящих штабов, систематическое живое общение полковых и дивизионных переводчиков со своими непосредственными начальниками и товарищами прививали им вкус к работе, заставляли чувствовать большую ответственность за добываемые путем допроса сведения, за обработку и изучение документов противника. Для командования важно было получить своевременные и достоверные сведения путем допроса пленного. В марте 1943 г. немцы начали в районе Белгорода подготовку к наступлению. Немецкое командование, маскируя сосредоточение войск, демонстрировало отвод частей с передового края, вывело в тыл ряд танковых дивизий СС, перемещало работу своей радиосети. Почти все военнопленные показали, что упорно циркулируют слухи о предстоящем наступлении где-то южнее Белгорода. Но разведданные говорили о том, что противник именно севернее Белгорода будет наносить удар против Курска. Но требовалась доразведка. В ночь на 14 июля в районе восточнее Трефиловки наши разведчики захватили военнопленного, который показал, что его подразделению и всей их части накануне был выдан сухой паёк (это уже важно). Проговорившись переводчику об этом, пленный вынужден был показать, что солдатам был зачитан приказ Гитлера о наступлении с утра 5 июля. Эти важные сведения немедленно были переданы командо-ванию армии и фронта. Показания пленных, захваченных в ту же ночь на других участках фронта, а также результаты подслушивания и наблюдения наших передовых частей подтвердили сведения о готовящемся переходе в наступление Белгородской группировки немцев и помогли уточнить время перехода в наступление - 4 часа 5 июля. Из опыта войны известны и такие примеры, когда из-за недостаточной подготовки переводчика явно снижалось качество разведывательной информации. Во время боёв на Курской дуге, когда противник, не считаясь с потерями, бросал в бой одну за другой свои дивизии, начальник разведки энской гвардейской дивизии выехал вместе со своим помощником в полки, а в штабе остался только переводчик, на которого в этот день возложили обязанность регулярно передавать вышестоящему штабу информацию о противнике. Возвратившись к вечеру в штаб дивизии, начальник разведки застал переводчика за передачей разведывательной сводки в штаб корпуса. “Противник, - передавал переводчик, - в течение дня трижды атаковали наши части силою до полка при поддержке 20-25 танков и самоходных орудий”. “Много бы я дал, чтобы узнать, кому принадлежат эти танки!” - заметил начальники разведки и в это время обратил внимание на кучу солдатских книжек противника, сложенных в углу землянки. “Что это за книжки?” - спросил он переводчика. - “Это документы, которые разведчики принесли еще утром, но мне все некогда было их посмотреть, товарищ майор!” - ответил переводчик. - “Я весь день был занят информацией”. - “Кто же вам дал право задерживать просмотр документов на целый день? Ведь это книжки атакующих подразделений противника”, - возмутился начальник разведки и стал быстро пересматривать документы. Среди большого количества материалов ранее отмечавшейся 332 пехотной дивизии противника было обнаружено несколько солдатских книжек танковой дивизии “Великая Германия” и боевой приказ одному из её батальонов. Это свидетельствовало о вводе противником в бой нового танкового соединения. По вине переводчика командование не было своевременно поставлено об этом в известность. Помимо своих основных переводческих обязанностей, выпускники ВИИЯ помогали офицерам разведки собирать и обрабатывать разведывательные сведения, составлять и передавать информацию подчиненным частям и в вышестоящие штабы. Военные переводчики штабов ведали вопросами организации учета и отправки пленных и трофейных документов. Деятельность переводчика на фронте была разносторонней. В этом отношении интересен опыт работы переводчиков в одной из дивизий в период Сталинградской битвы. С 19 ноября 1942 г., когда наши развернули успешное наступление, переводчики полков и дивизий войск принимали участие в работе по разложению войск противника, проводившейся политотделами армий и дивизий. Листовки с призывами сложить оружие, сдаться в плен и прекратить сопротивление, устная информация солдатам противника через рупоры - таков неполный перечень методов воздействия на врага, использовавшийся на переднем крае. Передавались обычно краткие, быстро запоминаемые и легко доходящие до сознания солдат противника короткие фразы. Например: “Внимание! Внимание! Не стреляйте! Слушайте правду о положении ваших войск. Вы полностью окружены. Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь в плен”. Результатом подобной работы была сдача в плен группами и даже целыми подразделениями, часто во главе с офицерами - особенно в последний период Сталинградской битвы и Белорусской операции. Институту уже тогда было ясно, что для успешной работы военный переводчик должен обладать специальными знаниями в области военного дела. Поэтому кафедра военной подготовки летом 1944г. была преобразована в кафедру оперативного искусства и тактики. Из воспоминаний В.М. Степанова (31.01.43): “Штаб нашей армии находился в пригороде - Бекетовке. Утром все мы поднялись на рассвете. Вдруг дверь стремительно распахнулась, в комнату вошел начальник штаба армии И.А. Ласкин. “Где переводчик?” - спросил он. Я подскочил. “Мигом собирайтесь со мной!”. “Что случилось?” - спросил я. “Едем в Сталинград за Паулюсом”. Нас встретил полковник Адаис, личный адъютант генерал-фельдмаршала. “Я хотел бы лично поговорить с Паулюсом” - властно потребовал генерал Ласкин. Паулюс вышел бледный, неестественно прямой. Коротко кивнул головой. Прошел к машине. Колонна вскоре тронулась. Мне было приказано остаться, чтобы завершить какие-то формальности, а затем добираться к себе на легком вездеходе Паулюса. Вскоре и мы отправились в путь. Когда миновали городскую черту, машину остановил наш пост внешнего охранения. У нашего экипажа действительно вид был подозрительный: немецкая машина, за рулем немецкий фельдфебель, на заднем сиденье вроде свой, но в странной компании с офицером-немцем. Все трое вооружены. Сержант без обиняков приказал: “А ну, вылезай”. Мой совершенно баз акцента русский язык не произвел на наших солдат никакого впечатления. Один из них с нескрываемой ненавистью глядя на меня, вполголоса сказал: “Ишь, как насобачился по-нашенски, стервец”. Я попробовал было протестовать. Бойцы недвусмысленно щелкнули затворами автоматов. С большим трудом удалось уговорить допустить меня к телефону. Я связался со своим штабом, и недоразумение оказалось улаженным”. Е.М. Ржевская, - переводчик группы армейской контрразведки, живым или мертвым разыскивавшая Гитлера, писала: «3 мая на территории имперской канцелярии появилась группа генералов штаба фронта. Проходя по саду мимо бетонированного котлована, на дно которого немцы складывали убитых во время бомбардировки и обстрела рейхсканцелярии, один из генералов ткнул указательным пальцем: «Вот он». В кителе, с усами, убитый издали слегка смахивал на Гитлера. Его извлекли из котлована и, хотя тут же убедились: не он, - все же началось расследование. Призвали опознавателей, в один голос заявивших: «Нет, не он». Все же этот убитый мужчина с усиками, в сером кителе и заштопанных носках лежал в актовом зале рейхсканцелярии до тех пор, пока прилетевший из Москвы бывший советник нашего посольства в Берлине, видевший неоднократно живого Гитлера, подтвердил: не он» Затем Е.Р. Ржевская стала готовить книгу для московского издательства АПН. Надо же было случиться, что в этом же издательстве готовились мемуары маршала Жукова. Издательские работники ознакомили маршала с рукописью Ржевской, и тот пришел в крайнее удивление: изложенное выглядело очень убедительно, но он, Жуков, о нем... ничего не знал. Тогда маршал пригласил Елену Ржевскую к себе на дачу для беседы — и здесь я воспроизведу текст моей давней знакомой и соученицы, описавшей встречу с великим полководцем. «Жуков сказал, что прочитал мою книгу. В ней я рассказала о том, как в дни падения Берлина нашими воинами был обнаружен покончивший с собой Гитлер и проведено расследование обстоятельств его самоубийства и опознание его. Я принимала в этом участие как военный переводчик. Мы поговорили о берлинских событиях, об имперской канцелярии, бегло коснулись других общих для нас тем и воспоминаний. Расспросил он меня о моей службе в армии. «Я тоже пишу. Дошел до Берлина сейчас. Вот и захотелось с вами повидаться. Устанавливался доверительный тон, и понемногу разговор приближался к главному. (Мне не приходится по памяти реставрировать подробности этой встречи, они записаны мной тогда же. И также все, что привожу из сказанного тогда Жуковым) Маршал Жуков сказал: «Я не знал, что Гитлер был обнаружен. Но вот я прочитал об этом у вас и поверил. Хотя ссылок на архивы и нет, как принято делать. Но я верю вам, вашей писательской совести. Я пишу воспоминания, — повторил он. — И сейчас как раз дошел в них до Берлина. И вот я должен решить, как мне об этом писать». — Он говорил неторопливо, однотонно, раздумчиво. — «Я этого не знал. Если я об этом так и напишу, что не знал, это будет воспринято так, что Гитлер найден не был. Но в политическом отношении это будет неправильно. Это будет на руку нацистам». Помолчав, он сказал: «Как это могло случиться, что я этого не знал?» Он хотел это уяснить с моей помощью. Это был его главный вопрос ко мне. Мне бы следовало предвидеть, что такой вопрос возникнет. Но по дороге к маршалу Жукову я почему-то не думала об этом. В самом деле, как это могло случиться, что командующий войсками, штурмовавшими Берлин, не знал, что его воины, овладев имперской канцелярией, в подземелье которой находился Гитлер с остатками своего штаба, нашли Гитлера, покончившего с собой? Такой важный и престижный факт для полководца, приведшего свои войска в Берлин. Он вправе был спросить и так: как смели не доложить ему об этом? Было с чего впасть не то что в недоумение, а в самый яростный гнев, если б знать, кому адресовать его, и если б многое другое в предшествующие нашей встрече годы не было бы его гневу ближе и существеннее. И он всего лишь спросил: как могло так случиться? Я знала, что все, связанное с обнаружением и опознанием трупа Гитлера в те майские дни, держалось в строгом секрете и докладывалось прямо Сталину -— по его распоряжению, — минуя командование фронтом, то есть маршала Жукова. Почему было так, это мог бы разъяснить только Сталин. «Не может быть, чтобы Сталин знал, — решительно отверг Жуков. — Я был очень близок со Сталиным. Он меня спрашивал: где же Гитлер?»— «Спрашивал? Когда?»— «В июне, числа девятого или одиннадцатого». — «К этому времени Сталин уже давно все знал, провел проверку и удостоверился». — «Но ведь он меня спрашивал: где же Гитлер?»— «Очевидно, не хотел дать понять, что знает».— «Зачем?..» -»Действительно, зачем?» «Жуков сказал, что прочитал мою книгу. В ней я рассказала о том, как в дни падения Берлина нашими воинами был обнаружен покончивший с собой Гитлер и проведено расследование обстоятельств его самоубийства и опознание его. Я принимала в этом участие как военный переводчик. Мы поговорили о берлинских событиях, об имперской канцелярии, бегло коснулись других общих для нас тем и воспоминаний. Расспросил он меня о моей службе в армии. «Я тоже пишу. Дошел до Берлина сейчас. Вот и захотелось с вами повидаться. Устанавливался доверительный тон, и понемногу разговор приближался к главному. (Мне не приходится по памяти реставрировать подробности этой встречи, они записаны мной тогда же. И также все, что привожу из сказанного тогда Помолчав, он сказал: «Как это могло случиться, что я этого не знал?» Он хотел это уяснить с моей помощью. Это был его главный вопрос ко мне. Мне бы следовало предвидеть, что такой вопрос возникнет. Но по дороге к маршалу Жукову я почему-то не думала об этом. В самом деле, как это могло случиться, что командующий войсками, штурмовавшими Берлин, не знал, что его воины, овладев имперской канцелярией, в подземелье которой находился Гитлер с остатками своего штаба, нашли Гитлера, покончившего с собой? Такой важный и престижный факт для полководца, приведшего свои войска в Берлин. Он вправе был спросить и так: как смели не доложить ему об этом? Было с чего впасть не то что в недоумение, а в самый яростный гнев, если б знать, кому адресовать его, и если б многое другое в предшествующие нашей встрече годы не было бы его гневу ближе и существеннее. И он всего лишь спросил: как могло так случиться? Я знала, что все, связанное с обнаружением и опознанием трупа Гитлера в те майские дни, держалось в строгом секрете и докладывалось прямо Сталину -— по его распоряжению, — минуя командование фронтом, то есть маршала Г.К. Жукова. Почему было так, это мог бы разъяснить только Сталин. «Не может быть, чтобы Сталин знал, — решительно отверг Г.К. Жуков. — Я был очень близок со Сталиным. Он меня спрашивал: где же Гитлер?»— «Спрашивал? Когда?»— «В июне, числа девятого или одиннадцатого». — «К этому времени Сталин уже давно все знал, провел проверку и удостоверился». — «Но ведь он меня спрашивал: где же Гитлер?»— «Очевидно, не хотел дать понять, что знает».— «Зачем?» - «Действительно, зачем?» Разговор Елены Ржевской с Георгием Константиновичем Жуковым длился долго, и они все время возвращались к роковому вопросу: почему Сталин скрыл все от своего заместителя, почему он обманул его и заставил перед всем миром говорить неправду? «При любых обстоятельствах я должен был знать об этом. Ведь я был заместителем Сталин» Почему Сталин вел себя так? Ржевская видит в этом преддверие грядущих изменений в судьбе Жукова, который вскоре попал в немилость. Я готов с этим согласиться, но добавлю следующее: скрывая разбирательство по «делу Гитлера» от Жукова, Сталин как бы переносил на него свое затаенное недовольство злосчастным фактом, что Гитлера поймать не удалось. Во время празднования 55-летия ВИИЯ КА бывшие выпускники военных лет вспоминали: «Мы, преподаватели иностранных языков, - вспоминает профессор Е. Гофман, - должны были не только обучать языку, но и сообщать нашим слушателям те знания, которые действительно были им необходимы для работы в разведке. Иногда мы были вынуждены даже переквалифицироваться. Например, я, преподаватель немецкого языка, читал лекции по организации немецких вооруженных сил. Конечно, со временем выпускники курсов получали именно те знания, которые требовались на фронте, но первым выпускникам пришлось нелегко». Именно он первым начал использовать оригинальные материалы 30-х и даже 40-х годов и познакомил будущих военных переводчиков с современной немецкой военной терминологией. Были среди преподавателей и политэмигранты антифашисты. Часто они почти не знали русского, зато могли сообщить своим слушателям очень ценную информацию не только о своем языке, но и об особенностях общения на нем. Вспоминая о первых уроках румынского языка и своем первом преподавателе, писатель Ирина Огородникова рассказывала: Главные трудности были позади...» Они заменяли своей личностью все: словари, пособия, разговорники. Специально нас не воспитывали, но каждый старался скорее получить необходимые знания, чтобы уехать на фронт». Приехали мы в Москву в резерв Ставки ВГК. И так получилось, что 1 декабря над Москвой сбили немецкий самолет «Юнкерс-88», взяли в плен сразу двух летчиков и решили их допрашивать в Ставке. Нашему командованию было важно знать: видят ли немцы с воздуха, как на помощь Москве идут из Сибири, с Дальнего Востока, Средней Азии свежие дивизии, не догадываются ли они о нашем контрударе? Поскольку по документам я - специалист военного перевода, меня зовут, так как никого другого не было под рукой. Все больше и больше выпускников отправлялись на фронт. Начались для них фронтовые будни, а положение бывало столь напряженным и потери столь велики, что прибывшие в свои соединения лейтенанты-переводчики немедленно назначались командирами подразделений и шли в бой. Военный перевод приходил позже, а сначала был бой. Немало выпускников курсов погибло тогда, возглавляя стрелковые подразделения, а те, кто выжил, столкнулись поначалу с колоссальными трудностями. Нахальный, наглый, самоуверенный. Где происходит наша беседа? На берегах Волхова, в глубине России. Он считает, что завтра падет Ленинград, послезавтра - Москва и вообще уже все «в кармане». А с кем он имеет дело? С мальчишкой, не знающим толком языка, военной терминологии, ничего. Мне обидно до слез. И вот я иду к своему генералу и прошу перевести меня в строй. Генерал Гусев немного помолчал, а потом сказал слова, которые я помню до сих пор: И пошел я выполнять приказ своего командира»... Военному переводчику надо было постоянно быть начеку. Конечно, многие пленные кричали «Гитлер капут», но были и другие. И. Левин заметил: «А были всякие. Были и подосланные. Была агентура, которая пыталась нас ввести в заблуждение. И самое интересное: мы писали протоколы допросов, а немец не подписывался под ними. Подписывались мы - военные переводчики. Отвечал не тот, кто говорил, а тот, кто допрашивал, а потом делал вывод и докладывал начальству. Вот такое было правило». В этих условиях переводчику необходимо было не только знать язык, но и быть хорошим психологом и аналитиком. Н. Берников, бывший в годы войны начальником отделения печатной пропаганды Главного политического управления, вспоминал: В так называемом Курляндском котле, на территории Латвии, в конце 1944 г. была блокирована сильная группировка немцев под командованием генерал-полковника Шернера. Используя резкопересеченную местность, противник создал сильную оборону. Но вот наша авиационная разведка доложила, что наблюдается движение немецких войск к одному из участков фронта. Невероятно, но факт: эти данные свидетельствовали о намерении немцев наступать. Решили проверить. В тыл к немцам отправился военный переводчик Н. Ветлов. Вот как описал он эту свою «одиссею».
И тут я услышал лай собак. Чтобы сбить их со следа, бросился в камыши, а затем пошел вдоль берега озера прямо по воде. В горячке я даже не ощущал, что вода-то ледяная. Наконец, промокший, окоченевший, выбираюсь на берег уже на нейтральной полосе. Обессиленный, ползком подбираюсь к кустам и... в этот момент получаю сильнейший удар по голове: меня «берут в плен» наши же разведчики. Оглушенный, не очень соображаю, что со мной происходит. А русский язык, на котором я пытаюсь объясниться с солдатами, приводит их в ярость: они принимают меня за власовца - ведь я в немецкой форме! В конце концов, когда я уже совсем окоченел, солдаты решили доставить меня в штаб, где доложил результаты разведки лично командующему армией. Награжден был орденом и немедленно отправлен в госпиталь. Там меня оттерли, напоили горячим чаем, а наутро я проснулся в полном здравии: даже насморка не было». О том, как развивались события дальше, рассказывает И. Левин: Так без единого выстрела, без единой капли крови этот город был взят. Закончилась война. По-разному сложились дальнейшие судьбы фронтовых переводчиков. В писательском труде раскрыли свое дарование Б. Ржевская, Л Безыменский, И Левин. Переводчиками самого высокого класса стали И. Огородников и Л. Парпаров. Мировое признание получило музыкальное творчество фронтового переводчика, выдающегося композитора современности - А. Эшпая. С журналистикой связал свою судьбу Н. Берников. В военной педагогике нашли свое призвание Н. Ветлов, М. Котляр и Е. Гофман. Известным фотохудожником стал А. Гершман. Обо всех и не расскажешь. Ведь было их более пяти тысяч. Многие погибли на войне... Фронтовые переводчики были захвачены именно этим потоком». Анчаров Михаил Леонидович родился 28 марта 1923 г. в Москве. Отец - Леонид Михайлович Анчаров - инженер-конструктор электролампового завода; мать - Евгения Исаевна Анчарова - преподаватель немецкого языка. В 1938-1940 гг. написал песни на стихи А. Грина, Б. Корнилова, В. Инбер. В 1940 г. после окончания средней школы поступил в Московский архитектурный институт. В начале Великой Отечественной войны по направлению военкомата поступил в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА). В октябре 1941 г. институт перевели из Москвы в Узбекистан, затем в 1942 г. - в Ставрополь. По окончании восточного факультета ВИИЯКА (в 1945 г.) в качестве переводчика китайского языка направлен на дальневосточный фронт. Участвовал в военных действиях в Маньчжурии. Во время учебы в ВИИЯ КА написал первые песни на собственные стихи («Песня о моем друге-художнике», «Прощание с Москвой»). Демобилизовался из армии (1947), окончил факультет живописи МГХИ им. Сурикова. В первые послевоенные годы написал песни на стихи своих друзей по ВИИЯКА (В. Туркина, Л. Старостова). Окончил в 1958-1963 курсы киносценаристов. Автор сценариев кинофильмов «Мой младший брат» (1962), телефильмов Аппассионата» (1963), «В одном микрорайоне» и «Москва. Чистые пруды» (1978), Написал более 20 песен, в том числе «Цыган-Маша», «Сорок первый», «Песня про органиста», «Баллада об относительности возраста», «МАЗ». Автор книг: «Теория невероятности», «Сода-солнце» (1968), «Золотой дождь», «Страстной бульвар» (1978), «Самшитовый лес» , «Роль» ,»Цель» (1985): «Записки странствующего энтузиаста», «Козу продам» (1988). «Как птица Гаруда», либретто оперы «Рыжая лгунья и солдат», пьес «Драматическая песня», «Слово о полку» (1971) Из воспоминаний Вадима Кожевникова: «Михаил Леонидович Анчаров... Его уже нет среди живых. 11 июля 1990 года - почти середина лета - безжалостная старуха, которую чаще зовут Смертью, посетила Поэта. Она пришла не в гости... Урна с прахом захоронена в колумбарии Нового Донского кладбища в Москве. Он ушел из жизни с достоинством и скромно. Без заслуженных почестей. Впрочем, как и жил - без должного, на мой взгляд, внимания и признания тех, для кого он, собственно, и творил. Всю жизнь. Пробуя себя в песнях и стихах, живописи и графике, драматургии и прозе. Вероятно, как это принято в российской практике, все впереди. А возможно, он сам так хотел. Анчаров родился и вырос на Благуше, которая тогда была окраиной Москвы. Год его рождения - 1923-й. Год рождения тех, кто первыми взяли в руки оружие, когда пришла война... Война здорово повлияла на его творчество. Но до войны еще были и детская изостудия, и музыкальная школа, разумеется, параллельно со средней, и были первые песни. Михаил Анчаров в 1941 году, с первого курса Архитектурного института Анчаров пошел в армию, был десантником. Затем, в 1944, окончив ВИИЯКА (Военный институт иностранных языков Красной Армии), был направлен в качестве переводчика китайского языка на Дальневосточный фронт, воевал в Маньчжурии. Песня «Рыжим морем на зеленых скамьях». Стихи написаны совместно с В. Туркиным. Туркин Владимир Павлович (1924- 1982) - поэт, учился вместе с М. Анчаровым в ВИИЯКА. В. Юровский писал: «В то время он был длинный такой солдат, такой смешной и удивительно обаятельный парень. Мы воевали с ним сначала вместе, потом отдельно. Первый куплет в песне «Рыжим морем на зеленых скамьях...» Туркин взял из моего стихотворения. А музыка там целиком моя. Именно поэтому этот стих («Приду!» ) песней не стал. У меня такой характер: как притронется кто-нибудь к моей песне, так она уже теряет для меня интерес». Анчаров написал «Гимн» второго факультета ВИИЯКА. После демобилизации Анчаров поступает в МГХИ им. Сурикова, Московский государственный художественный институт, на отделение живописи. Арзуманова-Гейн Нина Владимировна родилась в 1919 г. в д. Перхушково Московской области. В 1937 г. поступила в Первый МГПИИЯ, затем - на военном факультете Второго МГПИИЯ. Откомандирована в распоряжение ГРУ, работала переводчиком в лагерях военнопленных, После окончания адъюнктуры ВИИЯ в 1951 г. назначена зав. кафедрой немецкого языка, затем работала в органах КГБ. После демобилизации в 1960 г. в звании подполковника заведовала кафедрой немецкого языка на высших курсах иностранных языков МВТ, с 1969 г. - зав. кафедрой Дипломатической академии МИД СССР. Награждена орденом Красной Звезды и Знаком Почета. Безыменский Лев Александрович - профессор академии военных наук, родился 30 декабря 1920 года. Окончил школу в 1938 году и поступил в Московский институт философии, истории и литературы (философский факультет). В августе 1941 года призван в армию рядовым 6го запасного инженерного полка. Затем учился на курсах военных переводчиков (город Орск) и в Военном институте иностранных языков (город Ставрополь). С мая 1942 года на Юго-Западном фронте в должности офицера 394го отдельного радиодивизиона Особого назначения. Спустя полгода его перевели в разведотдел штаба Донского фронта, командующим которого был генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский. Л. Безыменский стал переводчиком, затем старшим переводчиком фронта, заместителем начальника информационного отделения. В качестве переводчика ему выпала историческая миссия - принимать участие в допросах генерал-фельдмаршала Паулюса и других немецких генералов, плененных в Сталинграде. В январе 1943 года Л. А. Безыменский был переведен в разведотдел штаба Донского фронта. Разведотделу было приказано определить количество войск противника в кольце окружения. Разведотдел допустил серьезную ошибку, доложив, что окруженная группировка противника насчитывает 80-90 тысяч солдат и офицеров. В действительности там находилось до 250 тысяч человек личного состава, 300 танков, более 4000 орудий и около 100 боевых самолетов. Штаб фронта дислоцировался в заснеженной степи на хуторе Заварыгин. В одном из домиков располагался командующий Донским фронтом К. К. Рокоссовский. После отклонения немецким командованием ультиматума о капитуляции (над его переводом на немецкий язык работал и Л. А. Безыменский войска Донского фронта 10 января 1943 года перешли в наступление. Через две недели стали поступать сообщения о пленении генералов противника, которых направляли в Заварыгин. Начальник разведотдела штаба фронта генерал-майор И. В. Виноградов приказал. Безыменскому переодеться в солдатскую форму и под видом заступающего на смену караульного слушать разговоры между пленными. Так выяснилось, что командующий 6й армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс находится в подвале сталинградского универмага. 31 января Паулюс, его начальник штаба генерал Шмидт и адъютант полковник Адам были взяты в плен. В штабе 64й армии, пленившей Паулюса, состоялся краткий допрос. Затем фельдмаршала и его подчиненных доставили в Заварыгин, где для пленных столь высокого ранга был выделен отдельный дом. Ночью 1 февраля было приказано привезти Паулюса в дом, где находились представитель Ставки Верховного Главнокомандования генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов командующий фронтом К. К. Рокоссовский. Везли Паулюса в «эмке». В ней же находился и Л. А. Безыменский . В прихожей дома Паулюс осведомился у него, как различить Воронова и Рокоссовского. Получив разъяснения, он вошел в комнату. На допросе Паулюсу рекомендовали обратиться к остающимся в «котле» войскам с предложением в целях сохранения жизней прекратить бессмысленное сопротивление. Генерал-фельдмаршал Паулюс отказался, мотивируя это тем, что он уже не командующий. Как вспоминает Безыменский, после допроса Паулюс пожелал вернуться в отведенный ему дом пешком, пояснив это желание тем, что давно не видел звездного неба. Вскоре фельдмаршалу пришлось отвечать на вопросы не только военных, но и гражданских лиц. Поскольку капитуляция 6й армии вызвала ярость у гитлеровского руководства, нацистская пропаганда распространяла самые различные версии, будто Паулюс погиб во главе сражающихся войск или он попал в плен тяжело раненным и находится под воздействием каких-то препаратов. Вот эту дезинформацию необходимо было срочно разоблачить. В Москве решили направить в Заварыгин группу аккредитованных в Советском Союзе корреспондентов союзных держав, чтобы они сами задали пленному фельдмаршалу интересующие их вопросы. Л. А. Безыменскому было приказано сообщить Паулюсу о предстоящей встрече с журналистами. Фельдмаршал воспринял сообщение русского переводчика без восторга и ответил: «Нет». Затем согласился на встречу при условии, что ответит лишь на несколько вопросов. 4 февраля 1943 года прибывшие из Москвы журналисты подошли к дому, где находился Паулюс. Безыменский попросил фельдмаршала выйти к журналистам. Паулюс выполнил просьбу. Лицо его было мрачным, губы крепко сжаты. По словам Безыменского, это была самая короткая пресс-конференция из всех, на которых он присутствовал. Вопросы задавал английский журналист, владевший русским языком. Вопросы на немецком и ответы Паулюса переводил Л. А. Безыменский Дословно они звучали так. После победы под Сталинградом переводчик Безыменский служил в разведотделах штабов Центрального, 1-го Белорусского фронтов, в разведуправлении Группы советских войск в Германии. После капитуляции Германии он был в составе следственной группы, допрашивавшей в июне 1945 года главных немецких военных преступников Геринга, Кейтеля, Йодля, Деница. Демобилизовался Л. А. Безыменский в октябре 1946 года. Затем окончил философский факультет МГУ (1948), поступил на работу в журнал «Новое время» литсотрудником. Затем стал членом редколлегии этого журнала, членом Союза журналистов СССР. Как корреспондент журнала «Новое время» освещал работу Берлинской (1954) и Женевской (1955) сессий Совета министров иностранных дел четырех держав. Член КПСС с 1943 по 1991 год. В 1972 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Был избран членом Совета Центра германских исторических исследований при Институте всеобщей истории РАН. С 1995 года - профессор Академии военных наук РФ. Член Совета ветеранов Союза писателей Москвы. Работал постоянным корреспондентом «Нового времени» в ФРГ (1971-1976, 1981-1982). Выпустил ряд книг: «Германские генералы с Гитлером и без него» (1961), «Особая папка «Барбаросса» (1972), «Конец одной легенды» (1972), «Разгаданные загадки третьего рейха» (1984), «Укрощение «Тайфуна» (1987), «Тайный фронт против второго фронта» (1987), «Человек за спиной Гитлера» (2000), «Будапештский мессия» (2001) и др. Книги переводились на многие европейские языки. Л. А. Безыменский награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», 22 медалями СССР, медалью «За мужество на поле боя» (Польша). Будучи переводчик Г.К. Жукова, Лев Безыменский вспоминал: «В ночь на 1 мая меня, офицера штаба Белорусского фронта, разбудили около трех часов ночи и приказали явиться к командующему. Это было в городке Штрауссберг, немного восточнее Берлина. Я бегом направился в подземное укрытие, где располагался командный пункт. За столом сидело все командование фронта: Жуков, начальник штаба Малинин, заместитель командующего Соколовский - весь генералитет... Текст был напечатан неестественно большими буквами. Потом я узнал, что это так называемая «пишущая машинка фюрера» - «фюрерштрайбмашине»... Это было письмо, подписанное Геббельсом, в котором он извещал Сталина о самоубийстве Гитлера...» Безыменский переводил, Жуков слушал, а генерал Бойков, держа в руках трубку ВЧ, диктовал перевод дежурному генералу ставки Сталина: Безыменский автор 20 историко-документальных книг, в прошлом разведчик, переводчик на допросах Паулюса, Геринга, Кейтеля и Деница, большой знаток Германии, распутавший немало загадок «третьего рейха». В 1942-1943 гг. учился в Военном институте иностранных языков Красной Армии в г.Ставрополь Куйбышевской области. Военный переводчик. Участник Великой Отечественной войны. Окончил филологический факультет МГУ в 1950 г. Профессор МГУ с 1974г. Докторская диссертация “Человек и война. Некоторые проблемы социалистического гуманизма в послевоенной советской прозе о войне” (1970). Начал печатать свои произведения в 1950г. Автор книг “Советская массовая песня (1956), “Вилис Лацис” (1959), “Эммануил Казакевич” (1969), “Василий Гроссман” (1970), “Слово о победителях. Военная проза Эм. Казакевича” (1970), “Гуманизм современной советской литературы” (1973), “Воспитательная сила литературы” (1976). В центре внимания Бочарова - литература о Великой Отечественной войне, вопросы национальной специфики литературы. Скончался в 1997г. Гроссман Михаил Израэлевич обучался и преподавал “Организацию и тактику немецко-фашистской армии” в ВИИЯ КА в г.Ставрополе с октября 1941 по февраль 1943г. С февраля 1943г. - в действующей армии. В действующей армии до октября 1944 г. служил начальником оперативного отделения в радиодивизионе ОСНАЗ на Южном, Сталинградском, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах, в северной оперативной группе Закавказского фронта. На должности начальника штаба 4 гвардейской стрелковой Апостолово-Венской Краснозна-менной дивизии окончил войну в Австрии. После войны - аспирант славяноведения АН СССР, в 1969 г. защитил докторскую диссертацию по вопросам культуры и литературы славянских народов. С 1970 г. - зав. сектором института славяноведения и балканистики АН СССР, автор 2000 научных работ, эксперт ЮНЕСКО по славянской культуре, секретарь Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур. В 1941-1942г. учился на курсах военных переводчиков при Военном факультете иностранных языков Красной Армии в г. Ставрополь Куйбышевской области. Участник Великой Отечественной войны. Автор оперы “Капитанская дочка” (1936-1939), оперетт “Взаимная любовь” (1940), “Чемпион мира” (1950), “Звездный рейс” (1965), “Предел моих мечтаний” (1963), кантаты “Казачья слава” (1946), симфонической сюиты “В Закарпатской Украине” (1952), произведений для духового, эстрадного оркестров, инструментальных ансамблей. Лауреат государственной премии СССР (1950) за песни “Сирень цветет”, “Шумел сурово Брянский лес”, “Как у дуба, у старого”, “Заздравная”. Народный артист СССР. В числе его произведений “Два Максима”, “Здравствуя, столица”, “Дай руку, товарищ далёкий”, музыка для театра, кино, радио, цирка. Коган Павел Давыдович родился 4 июля 1918 г. в Киеве. Русский поэт. В 1936 г. поступил в МИФЛИ, с 1939 г. занимался в Литературном институте им. Горького. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, в октябре 1941 г. - феврале 1942 г. учился на курсах военных переводчиков при Военном факультете иностранных языков в г.Ставрополь Куйбышевской области. На фронте Павел Коган не писал стихов, он считал, что для этого не пришло время, - надо быть солдатом. В одном из писем с фронта поэт писал: “Здесь жили люди. Теперь люди не живут. Такого понятия здесь вообще нет, - теперь люди воюют”. Так понимал свой долг перед Родиной. В 1937 г. он писал о надвигающейся военной грозе: “..Там поднимается эпоха Летом 1942 г. родные получили от Павла Когана письмо: «Что писать о себе: жив, здоров, бодр, воюю... Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь-жизнь. Рядом со смертью это очень хорошо понимается. И ради жизни, ради Оленькиного смеха, ради твоей седой чудесной головы я умру, если надо будет, потому что человек с нормальной головой и сердцем не может примириться с фашизмом... Люди и фашисты не могут ужиться на одной планете». Павел погиб в суровые дни 1942 года под Новороссийском, возглавляя поиск разведчиков. На переднем крае он встретил последний день своей жизни. Ветер суровой романтики в последний раз прошумел тогда над ним. В стихах Когана - яркая поэтическая исповедь молодого поколения участников Великой Отечественной войны, “мальчиков невиданной революции”. Романтика Когана сурова - на ней печать трудного времени, огнем проверяющего души людей, отсвет надвигающейся военной грозы; она проникнута непримиримостью к расхождению между словом и делом. Стихи Когана переведены на многие иностранные языки. Кожемякин Вениамин Ефимович родился в 1925 г., с июля 1943 по июль 1944 г. учился на курсах военных переводчиков при ВИИЯ КА, в действующей армии – на 1-м Белорусском фронте в составе разведотдела 247 стрелковой дивизии, затем - в 1-м стрелковом корпусе 69 армии. Прошел боевой путь от Вислы до Эльбы, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями за освобождение Варшавы, Берлина. В 1945 г. переводчик коменданта Берлина, затем - генерал-лейтенанта Д.И. Смирнова. Кондратьева Аделина Вениаминовна родилась в 1920 г. в Москве. В 1937-1938 гг. находилась в правительственной командировке в Испании. С апреля 1941 г. - слуша-тельница Военного факультета при 2-м МГПИИЯ. В действующей армии с 1942 по 1943 гг. военный переводчик испанского и итальянского языков. В 1944 г. после окончания ВИИЯ КА стала преподавателем этого института. С 1949 г. в отставке. Награждена орденом Красной звезды. В 1950-1953 гг. - зав. кафедрой Московского педагогического института, в 1956-1966 гг. - преподаватель института мировой экономики и международ-ных отношений АН СССР, с 1966 г. - старший научный сотрудник института международного рабочего движения АН СССР, кандидат исторических наук. Корнилова Елена Вячеславовна работала в ВИИЯ КА с 1944 по 1956г. преподавателем английского и зав. кафедрой литературы. Автор многих учебных пособий для изучающих английский язык и литературу, автор работ по английской и американской литературе. Сотрудничала в издательствах “Советская литература”, “Знания”, “Искусство”, “Литературная энциклопедия”, “БСЭ”. Краснопевцева-Нарроевская Ирина Дмитриевна родилась в 1923 г. В 1941 г. после окончания 10 классов поступила слушательницей Военного факультета иностран-ных языков Красной Армии, обучалась в Ставрополе. После окончания института в 1944г. направлена на работу в Союзную Контрольную комиссию в Болгарии. В 1946 г. продолжила обучение в ВИИЯ, по окончании оставлена в адъюнктуре, до 1955 г. работала старшим преподавателем кафедры вторых языков. С 1965 г. работала в Московском энергетическом институте, а затем - в издательстве “Прогресс”. Кружко Иван Федорович, родился в 1922 г. в Днепропетровской области. Львов (Гец) Сергей Львович, писатель. Родился в Москве. С октября 1941 г. учился на курсах при Военном институте иностранных языков Красной Армии в г. Став-рополь Куйбышевской области, адъюнкт. С 1942г. преподавал в ВИИЯ КА, с 1943 г. - в Москве. Военный переводчик. Участник Великой Отечественной войны. Автор книги “Быть или казаться”. Левин Иммануил Ильич (1915-1994), родился в Москве, в 1942 г. окончил курсы военных переводчиков при Военном факультете иностранных языков в Ставрополе Куйбышевской области. Участник Великой Отечественной войны, военный переводчик. После войны работал корреспондентом журнала “Крокодил”. Член СП СССР. Писатель. Автор книг “Воспоминания военного переводчика”, “Записки военного переводчика”. Скончался в 1994г. Минаева-Романова Ольга Георгиевна родилась в 1924 г. в Москве, с 1940 г. - студентка 2-го Московского педагогического института иностранных языков, с июля 1941 г. - на Военном факультете иностранных языков РККА в Ставрополе. С декабря 1942 г. - в действующей армии (Северо-западный фронт). С сентября 1944г. возобновила обучение в ВИИЯ КА. С 1948 по 1975 г. - преподаватель средней школы. Мицкевич Анатолий Петрович родился в 1919 г. в Днепропетровске, в семье профессора физики. В 1941 г. окончил физический факультет МГУ. В первые дни войны добровольцем ушел в армию. Служил в Орской спецшколе. С февраля 1942 по июль 1943 г. учился на Военном факультете иностранных языков в г. Ставрополь Куйбышевской области. В августе 1943г. - отозван в Главное разведуправление Генерального штаба, где он служил до июня 1956г. Блестящее знание английского языка позволило ему стать переводчиком маршала Г.К. Жукова при подписании капитуляции гитлеровской Германии, маршала В.Д. Соколовского на переговорах с Д. Эйзенхауером, маршала А.М. Василевского при капитуляции Квантунской армии в Манчжурии. В Италии А.П. Мицкевич встречался с Пальмиро Тольятти и Луиджи Лонго. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями “За боевые заслуги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне”. После войны А.П. Мицкевич работал начальником отдела научно-исследовательского института, в 1952 г. защитил кандидат-скую диссертацию по теме “К вопросу о дихроизме микрокристаллических пленок органических красителей”, имел 19 научных трудов. С 1956 г. инженер-майор Мицкевич работал в институте металлургии АН СССР, затем - в институте мировой экономики. Кандидат физико-математических наук А.П. Мицкевич - писатель-фантаст, известный под псевдонимом А.П. Днепров. Первое научно-фантастическое произведение А. Днепрова было опубликовано в 1958 г. Им написаны: сборник научно-фантастических повестей и рассказов “Уравнение Максвелла” (1960), “Мир, в котором я исчез” (1962), “Глиняный бог”, “Формула бессмертия” (1963).Творчество А. Днепрова было посвящено проблемам развития современной науки, её воздействия на жизнь общества. Книги писателя вышли во многих странах мира. Несколько лет А.П. Мицкевич работал научным редактором журнала “Техника - молодежи”. А.П. Мицкевич скончался в 1975 г. В декабре 1942 г. в боях под Демянском был тяжело ранен и полгода находился в госпитале. В апреле - октябре 1943 г. слушатель английского отделения 2 курса 1 факуль-тета Военного института иностранных языков красной Армии в г. Ставрополь Куйбышевской области. С мая 1943 г. по апрель 1944 г. служил в качестве секретаря политчасти 202 запасного стрелкового полка спецчастей Западного фронта. В 1944-1955 г. возглавлял кафедру литературы ВИИЯ КА. Кандидат филологических наук (1953), автор работ: “Творчество Поля-Вайяна Кутюрье” (1952), “Творчество Анри Барбюса” (1953). Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, медалью “За боевые заслуги”. С 1953 г.- научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР, доктор филологических наук (1968), член СП СССР. Опубликовал пять книг: Нечаева Серафима Павловна родилась в 1918 г. В феврале 1942 г. окончила Военный факультет при 2-го МГПИИЯ, направлена в Куйбышев преподавателем немецкого языка в Военно-медицинскую Академию, с сентября 1942 г. - в ВИИЯ в Ставрополе. После войны преподавала в ВИИЯ до 1954г. С 1957 г. - старший преподаватель военно-дирижерского факультета Московской государственной консерватории. Панов Игорь Владимирович, родился в 1922 г. в п. Шварц Тульской обл., призван в армию с 4-го курса Московского института декоративного и прикладного искусства, окончил пулеметную школу в г. Термез, в январе 1944г. окончил курсы военных переводчиков при ВИИЯ КА, служил шифровальщиком и оператором радиопе-рехвата в войсках “СМЕРШ” (группа обслуживала Верховное главнокомандование). Воевал в Румынии, Венгрии, Германии. До 1948 г. в Германии работал в военных комендатурах городов Цвенкау, Лейпциг, Майсен лейтенантом административной службы. Награжден орденом Красной Звезды. Умер в 1953 г. Пегеев Александр Павлович родился 11 августа 1923 г. в г. Дзержинск Горьковской области. С 1 курса учительского института иностранных языков был направлен на курсы военных переводчиков в Москву. С декабря 1941 г. на Западном фронте, в действующей армии на Белорусском фронте до августа 1944 г. в качестве военного переводчика. 25 ноября 1955 г. уволен в запас в звании капитана. Преподавал в средних учебных заведениях. Попова-Маневич Татьяна Львовна родилась в Москве в 1922г. в семье военнослужащего. После окончания средней школы № 93 добровольно вступила в ряды РККА и была направлена для обучения на Военном факультете иностранных языков КА. После окончания 3 курса направлена на работу в Управление войсковой разведки Генерального штаба, где и работала до конца в качестве военного переводчика. Группа переводчиков: Л. Новикова, Т. Маневич, В. Баженов - работали над переводом плана нападения Германии на СССР “Барбаросса”. В 1945-1946гг. работала переводчиком оперативного отдела лагерей военнопленных под Ригой и Калининградом. После окончания английского факультета 1 Московского государственного института иностранных языков им. М. Тореза, преподавала в Военной академии и Высшей Краснознаменной школе КГЮ им. Ф. Дзержинского. Автор 15 книг: “Берлин. Май 1945” (переведена и вышла в 20 странах, 1965), “От дома до фронта” (1965), “Под Ржевом”(1965), “Февраль. Кривые дороги” (1975), “Ближние подступы” (1980), “Ворошенный жар” (1985), “Знаки препинания” (1986), “Далёкий гул” (1988), “Геббельс. Портрет на дневнике” (1994). Соавтор десяти документальных фильмов военной тематики. Член СП РФ, международного Пенклуба. Лауреат Премии им. А. Сахарова (1995), награждена золотой медалью имени А. Фадеева за вклад в развитие военной литературы. Рудкина Тамара училась на Военном факультете иностранных языков в Ставрополе в 1941 г. Погибла в 1942 г. в составе десантной группы. Преподавала на курсах военных переводчиков вместе со студентами 3 курса Евгенией Ивановой, Галиной Масловой, Татьяной Абольниковой. С марта 1944 г. по май 1945 г. - с группой слушателей ВИИЯ КА на 1-м Украинском фронте для выполнения спецзадания ГлавПУР РККА. После окончания в 1945 г. ВИИЯ КА преподавала в этом институте до марта 1962 г. С июля 1946 г. - переводчица на Нюрнбергском процессе. Уволена в запас в звании капитана. С 1962 г. по 1980 г. преподаватель Военной Академии МО СССР. Стеженский Владимир Иванович (1921-2000), писатель, переводчик. Родился в Москве, учился в МИФЛИ. В 1941 г. направлен для обучения на курсы военных переводчиков при Военном факультете иностранных языков в г. Ставрополь Куйбышевской области, с февраля 1942 г. военный переводчик разведотдела штаба 383-й стрелковой дивизии. После войны работал в Союзе писателей СССР. Автор 10 книг. В 2005 г. издан его «Солдатский дневник». Ступникова Татьяна Сергеевна (1923–2005) работала в Библиотеке им. Ленина, а потом – в отделе международного библиотековедения Библиотеки иностранной литературы. Т.С. Ступникова владела немецким в совершенстве.Была переводчиком-синхронистом на Нюрнбергском процессе. Из воспоминаний Т. Ступниковой: «Наконец, я в зале заседаний Международного военного трибунала. Меня, как и других новичков, пустили или, точнее, привели на очередное заседание суда для знакомства с обстановкой, в которой нам предстояло работать. Такая подготовка была необходима, и её, имея пропуск в кармане, можно было повторять, благо суд заседал ежедневно, кроме воскресенья, с десяти часов утра до пяти вечера с часовым перерывом на обед. В Нюрнберге каждый член советской делегации отдавал себе отчет в том, что любое неудачное или, точнее, неугодное властям высказывание для него крайне опасно. Тем более опасно малейшее вольное или невольное отступление от линии поведения, предписанной нам, представителям Советского Союза, за рубежом. Это строгое предписание исходило от Коммунистической партии и в данном случае конкретно от специально созданной в Москве правительственной комиссии по руководству Нюрнбергским процессом. Писаны ли были эти строгие правила или как бы подразумевались сами собой, но их нарушение грозило в лучшем случае отправкой из Нюрнберга и потерей работы на Родине, а в худшем - тюрьмой и даже потерей жизни. Так это было в сталинские годы в многострадальном социалистическом Советском Союзе. И мы хорошо усвоили этот неписаный закон, перед которым все были равны: и генерал, и рядовой, и судья, и переводчик. Кара за малейшие ошибки и проступки, да и вообще ни за что, а просто так, по доносу завистника или секретного сотрудника, которых в советской делегации было более, чем достаточно, могла настичь нас везде. Каждый мог полагать, что расправа будет жестокой и беспощадной. Наши секретные агенты в Нюрнберге были, как правило, в чинах и погонах или же без погон и без определенных занятий. Правда, иногда им приходилось, большей частью для отвода глаз, выполнять задания, связанные с Международным процессом. Однако их основная работа заключалась в слежке за всеми и за каждым в отдельности в целях «разоблачения преступной связи советского гражданина с иностранной разведкой'>. Доклады начальству о каких-либо высказываниях и действиях антисоветского характера они должны были писать регулярно. Поэтому, если таковых высказываний и действий не было, их следовало выдумывать. Как говорится, «ни дня без строчки». Служба соглядатаев должна была работать бесперебойно. Надежными помощниками профессиональных секретных агентов были добровольные осведомители - наши коллеги. Дружная совместная работа не мешала некоторым из нас строчить доносы на своих товарищей, вызывавших у них чувство зависти или неприязни. Мы, советские граждане, старались не распространяться на подобного рода исторические и в данном случае по существу политические темы. Мы были в буквальном смысле окружены стукачами, которые, чтобы выслужиться перед начальством или просто навредить несимпатичному человеку, а то и по указанию свыше могли ловко исказить или «тонко» прокомментировать любые твои высказывания, накатать на тебя любую наглую и беспардонную клевету, чреватую серьезными неприятностями. Поэтому, отвечая в те времена моим собеседникам, я всегда чувствовала нависшую надо мной опасность «разоблачения» кем-нибудь из слушателей то ли моего «антисоветского» подхода к проблемам Нюрнбергского процесса, толи моей недопустимой «антимарксистской» оценки поведения главных военных преступников. Стандартный перечень всех вероятных и самых невероятных ошибок и промахов можно продолжить. Какое именно разоблачение последует, — это зависело и от того, кто писал донос: философ или, скажем, уборщица. Дело было так. В один из жарких летних дней начала августа я мчалась по коридору в зал суда, в наш переводческий «аквариум», куда можно было проникнуть через боковую дверь в конце коридора. Нечего и напоминать, что нам надлежало быть на рабочем месте до того, как маршал суда провозгласит «Встать! Суд идет, то есть до открытия очередного заседания. Опоздания были нежелательны, а строгий американский начальник синхронистов имел обыкновение лично проверять нашу пунктуальность. Помню, что от ужаса у меня внутри всё похолодело. За спиной Геринга стоял тоже почему-то улыбающийся американский охранник. Не знаю, как я дошла до двери в аквариум. Но и здесь меня ждало новое испытание. Ко мне подскочил откуда-то взявшийся французский корреспондент. Нас, переводчиков, все хорошо знали, так как мы ежедневно сидели в зале суда рядом с подсудимыми у всех на виду Хитро подмигнув, корреспондент сказал по-немецки: «Вы теперь будете самой богатой женщиной в мире». И, очевидно, заметив мою растерянность, пояснил; «Вы - последняя женщина в объятиях Геринга. Неужели непонятно?» Да, этого мне было не понять, француз не учел главного, а именно того, что в объятиях нацистского преступника оказалась советская женщина. А этим всё сказано. Если бы на моем месте была англичанка, француженка или женщина какой-либо другой страны, находившейся по ту сторону железного занавеса, легко было бы представить себе такую концовку этого скорее смешного, чем грустного эпизода. В ответ на реплику корреспондента она подарила бы ему очаровательную улыбку и в перерыве между заседаниями согласилась бы пойти с ним в кафе-бар Дворца юстиции, чтобы отметить столь необычайное событие. Событие было действительно необычайным, ибо подходить к подсудимым разрешалось только защитникам в зале суда, да и то под присмотром МР. Никому не приходило в голову нарушать это строжайшее правило. К тому же американская военная полиция бдительно охраняла подсудимых, когда они гуськом направлялись в зал заседаний. Первым шел Геринг, за ним — его охранник, за охранником - Гесс со своим стражем и так далее один за другим все стальные в том порядке, в котором они сидели на скамье подсудимых. Получилось так, что, опаздывая, я бежала наперерез этой процессии и меня вынесло прямо на подсудимого № 1. Первого июля 1946 года мне довелось принять участие в этом сражении в скромной роли синхронного переводчика. Моя смена в этот день началась с допроса доктором Штамером главного свидетеля защиты полковника Фридриха Аренса, командира 537-го полка связи, который осенью 1941 года стоял в районе Катынского леса. Для перевода короткие, ясные, повторяющиеся в различном словесном оформлении вопросы опытного защитника и по-военному четкие ответы свидетеля не представляли трудности, если не считать необходимости обеспечить предельную точность перевода. В данном случае каждое слово могло вызвать нежелательную дискуссию или, что еще хуже, упрек в адрес переводчика, которого главные действующие лица, когда дело принимает нежелательный оборот, превращают в козла отпущения. В зале суда Розенберг, казалось, продолжал обдумывать идеологические основы национал-социализма, не обращая никакого внимания на сидевших с ним вместе функционеров нацистской партии. Иногда он рисовал карандашные портреты. Через много лет я прочла в мемуарах Папена, что это были портреты вызванных в суд свидетелей. Перевод немецких документов. Этих документов было великое множество. Наши добросовестные коллеги — письменные переводчики не всегда справлялись с работой, тем более всегда срочной. Обычно вновь поступивший документ надо было перевести к утру следующего дня. Потому-то после работы у микрофона в зале суда мы нередко переключались на письменный перевод. Мы диктовали перевод нашим машинисткам, которые в Нюрнберге всегда были в боевой готовности и ждали нас, заготовив бумагу с копиркой и положив пальцы на клавиши своих пишущих машинок. Работа в таких условиях начиналась мгновенно, и переводчику необходимо было выдержать задаваемый машинисткой темп, не теряя при этом качества перевода. Нашим английским синхронистам тоже приходилось нелегко, но всё же объем работы у них был меньше, чем у «немцев». Они переводили американских и английских обвинителей и судей, в том числе и председателя суда Лоренса, который требовал к себе особого внимания, ибо часто вклинивался в любую речь или в любой диалог своими спокойно произносимыми, но весьма категоричными замечаниями и репликами. Те, к кому они были обращены, предпочитали не возражать мистеру Пиквику. В случае необходимости английские синхронисты тоже переводили документальные материалы. Что же касается наших французских коллег, то им повезло. Французский язык звучал в зале суда значительно реже, чем немецкий или английский, и они, хотя и сидели вместе с нами в «аквариуме», чаще всего молчали, ожидая, когда в наушники поступит французская речь. Вот как раз этому-то, как показала вся наша последующая жизнь, не надо было завидовать. Для начинающего синхрониста нет ничего полезнее, чем постоянная длительная практика в переводческой кабине с наушниками на голове и микрофоном в руках. Для синхрониста с немецким или английским языком лучшей практики, чем Нюрнбергский процесс, как по объему работы, так и по содержанию не придумаешь. Признаюсь: иногда нам приходилось очень трудно. Ведь нас, советских переводчиков с немецким, английским и французским языками, письменных, устных и синхронных, было всего 40 человек, в то время как у американцев работало в общей сложности 640 переводчиков. Я привожу приблизительные цифры, к тому же эти цифры всё время менялись, но для сопоставления они годятся. Правда, после нашего приезда это были, как правило, только письменные переводчики. Вспоминается такой эпизод. Однажды из Москвы прислали очень милую даму средних лет, преподавателя немецкого языка на юридическом факультете МГУ. Первый шок она пережила на улицах Нюрнберга, услышав везде и всюду баварский диалект, который без привычки понять невозможно. Мы сумели ее как-то успокоить, уверяя, что немцы, приезжающие в Нюрнберг из Берлина и других городов, тоже испытывают значительные затруднения с местным говором. Но уберечь преподавательницу МГУ от второго удара мы при всем желании не смогли. Он был нанесен адвокатом Геринга доктором Штамером. Сидя в зале суда по гостевому билету, наша соотечественница и коллега вдруг услышала ответ адвоката на вопрос председателя о том, сколько времени ему потребуется на представление документов и заключительную речь по делу его подзащитного. Последовал четкий ответ: «Доктор Стамер — зибен стунден» (Доктор Стамер — семь часов). Явные фонетические ошибки доктора Штамера привели нашу преподавательницу в полное смятение. И напрасно мы твердили ей, что адвокат действительно нарушил незыблемое правило фонетики немецкого языка, по которому сочетание букв л? следует произносить как и/т (Штамер, штунден), что адвокат заговорил на своем родном северном диалекте, потому что волновался, так как не был уверен в том, что суд даст ему испрашиваемое время. Слушая эти объяснения наша соотечественница все время повторяла: «За такую ошибку я ставлю студентам двойки». Розенберг инстинктивно классифицировал их по расовым признакам. Когда же пришла его очередь говорить, он, защищая себя, использовал весьма распространенную и потому хорошо знакомую и нам мысль о том, что идеи национал-социализма сами по себе прекрасны, но их претворение в жизнь всячески извращалось нерадивыми исполнителями. Остается загадкой, где же отцу-основателю нацистской идеологии удалось отыскать в этой идеологии какую-нибудь прекрасную идею! Больше у меня не осталось в памяти об Альфреде Розенберге ничего, если не считать маленького переводческого эпизода. Дело в том, что на процессе, как я уже говорила, синхронным переводчикам разрешалось переводить только на родной язык. Поэтому Розенберг слушал в наушниках перевод с русского на немецкий, осуществлявшийся его соотечественниками. Всё шло своим чередом. И вдруг подсудимый сорвал с головы наушники и, повернувшись в сторону нашего переводческого –аквариума: « громко и сердито, так, чтобы мы слышали, сказал, обращаясь к немецкой переводчице на хорошем русском языке: «Не картины с изображением Бога - Gottesbilder, а иконы — Tkonen, матушка. И, хотя из биографии Розенберга нам было известно, что он родом из Прибалтики и даже успел после революции поступить в советское высшее учебное заведение, но всё же внезапность замечания, да еще на безупречном русском языке произвела на переводчиков шоковое действие. Я уже не говорю о виновнице происшествия, симпатичной молодой немецкой переводчице, которая, очевидно, просто перестаралась и, стремясь онемечить текст, использовала в синхронном переводе с детства знакомое ей слово «Gottesbild». Напомню, что картины на библейские сюжеты - обязательный атрибут интерьера немецкой семейной спальни, но они не являются священными предметами или Божьими образами, подобно русским иконам. Всё тут же уладил всегда спокойный и доброжелательный председатель суда Лоренс. Я сидела в нашем «аквариуме» вместе со своими двумя коллегами, один из которых переводил с английского на русский Додда, я переводила с немецкого на русский Заукеля. Третий переводчик с французского молчал, так как ему переводить было нечего. Я сидела рядом с английским переводчиком и мы, как всегда, пользовались одним маленьким переносным микрофоном, по мере надобности передавая его друг другу. Надо иметь в виду, что допрос Заукеля происходил в конце мая 1946 года. К этому времени ежедневный синхронный перевод в зале суда дал переводчикам возможность накопить определенный опыт и привыкнуть к условиям работы. Потому в тот майский день, который мне было суждено запомнить на всю жизнь, всё, что касается перевода, шло своим чередом. Переводчики в данном случае не испытывали никаких трудностей, если не считать обычного напряжения, к которому привыкнуть нельзя. Казалось, ничто не предвещало каких-либо неожиданностей, хотя мы и должны были их ожидать, как и любой переводчик, в особенности синхронный, который должен уметь преодолевать затруднения незаметно для окружающих. Но именно на допросе Заукеля обвинителем Доддом случилось нечто невероятное и необъяснимое. Подсудимый разволновался и стал кричать, что он ни в чем не виноват и что его обманул Гитлер, что он всегда был идеалистом, защищающим справедливость. А Додд представлял суду и Заукелю все новые и новые доказательства виновности подсудимого, и упрямство последнего разбудило в обвинителе праведный гнев. Возмущенный упорным отрицанием Заукеля перед лицом неопровержимых доказательств его бесчеловечности и жестокости по отношению к иностранным рабочим, американский обвинитель жестко и безапелляционно бросил в лицо Заукелю: «Вас надо повесить!» Заукель в ответ закричал, что его не надо вешать, что он сам честный рабочий и моряк. Такой эмоциональный диалог невольно захватил нас с коллегой. Всё это мы исправно и быстро переводили, и перевод бесперебойно поступал в наушники сидевших в зале русскоязычных слушателей. И вдруг с нами произошло что-то непонятное. Когда мы очнулись, то, к своему великому ужасу, увидели, что мы вскочили с наших стульев и, стоя в нашем переводческом аквариуме, ведем с коллегой громкий резкий диалог, под стать диалогу обвинителя и подсудимого. Но мало этого: я почувствовала боль в руке. Это мой напарник крепко сдавил мою руку выше локтя и, обращаясь ко мне столь же громко, как и взволнованный обвинитель, только по-русски, повторял; Вас надо повесить!» А я вся в слезах от боли в руке вместе с Заукелем кричала ему в ответ; «Меня не надо вешать! Я — рабочий, я — моряк!» Все присутствующие в зале обратили к нам свои взоры и следили за происходящим. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не председатель суда Лоренс, добрым взглядом мистера Пиквика смотревший на нас поверх своих съехавших на кончик носа очков. Не долго думая, он спокойно сказал: «Что-то там случилось с русскими переводчиками. Я закрываю заседание». Всё обошлось как будто бы без последствий, если не считать синяка на моей руке. Однако вскоре мне по секрету сообщили, что кто-то из недремлющих проинформировал представителей компетентных органов, что я проявила сочувствие к подсудимому Заукелю и даже оплакивала его судьбу. Сведения были верными, однако никаких оргвыводов из этого доноса не последовало. А я старательно демонстрировала свои синяки — истинную причину моих горьких слез. Чтобы совсем покончить с этим случаем и отдать долг справедливости ушедшему от нас автору доноса, скажу, что за несколько дней до своей смерти, последовавшей через много лет в Москве от тяжелого заболевания, этот человек позвонил мне. Умирающий попросил у меня прощения за свою «ошибку». Бог его простит, раз у него хватило решимости покаяться». Триста Иван Акимович родился в 1910 г. в Москве. В 1922 г. уехал на Кубу к отцу, окончил в 1931 г. юридический факультет Гаванского университета. С декабря 1936 г. - переводчик советника по артиллерии Николая Гурьева в Валенсии (Испания), переводчиком советника артиллерии Николая Александровича Клича, затем, до 1938 г. - переводчик Клечче И.А. (Аль-Баседа). За участие в боях в Испании награжден орденом боевого Красного Знамени. В 1941 году - призыв в армию, где требовались переводчики, и направление в Военный институт иностранных языков. Осенью 1942 года О.А. Трояновского назначили редактором-переводчиком в Совинформбюро, а с октября 1944 года он работал в созданном по договоренности между СССР, США и Великобританией совместном комитете по ведению психологической войны против Германии, находившемся в Лондоне. Вскоре Трояновский был зачислен в состав посольства как атташе. В Лондоне О.А. Трояновскому было поручено работать в составе советской делегации, участвовавшей в переговорах по разработке устава готовящегося Нюрнбергского процесса, в котором затем он принял участие в качестве секретаря советского судьи. В 1946 году - работа переводчиком на Парижской мирной конференции по разработке мирных договоров со странами-союзниками гитлеровской Германии, а в начале 1947 года - назначение в секретариат министра иностранных дел В.М. Молотова. В начале 1951 года по предложению ЦК КПСС О.А. Трояновский перешел на работу в редколлегию вновь созданного журнала на английском языке «Новости». С апреля 1953 года он работал Вскоре его назначили послом в Японию. В 1976 г. он получает назначение на пост постоянного представителя при ООН, на котором он проработал 9 лет. В начале 1986 года О.А. Трояновский получает назначение на пост посла в Китае. В 1996 году О.А. Трояновский избран президентом Ассоциации содействия ООН. Он является почетным доктором Дипломатической академии МИД России. О.А. Трояновский награжден двумя орденами Ленина (1976, 1982), орденом Октябрьской Революции (1979), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1951, 1966, 1989), орденом «Знак Почета» (1969), медалями. Из воспоминаний О.А. Трояновского: «В те самые дни, когда гитлеровцы напали на нашу страну, началась экзаменационная сессия в нашем Московском институте философии, литературы и истории. Я шел на квартиру к одному из своих товарищей, чтобы вместе готовиться к очередному экзамену, когда по радио объявили, что вскоре будет передано важное правительственное сообщение. Потом выступил В. М. Молотов с заявлением о начале войны. Помнится, мелькнула мысль, почему выступил Молотов, а не Сталин. Несмотря на войну, экзамены продолжались. Пожалуй, это были самые легкие экзамены в моей жизни. Мысли как преподавателей, так и студентов были заняты, совсем не науками, поэтому зачеты ставились с беспрецедентной легкостью. В эти дни я перешел на 4-й курс литературного факультета. Примерно через три недели, в середине июля я был призван в армию и вместе с большой группой студентов отправлен в Тесницкие лагеря под Тулой. Здесь из нас должны были сделать солдат. Но все обучение сводилось к маршировке, так как ни винтовок, ни какого-либо другого воинского снаряжения в лагерях не было. Энтузиазм курсантов, по мере того как с фронтов поступали невеселые сообщения, таял. Тяжкое впечатление произвел приказ Сталина, который был зачитан перед строем где-то в августе. В нем объявлялись всяческие кары за сдачу позиций, дезертирство, невыполнение приказа. В середине сентября к нам в лагеря прибыла комиссия, которая стала отбирать курсантов, знающих иностранные языки. Естественно, особая нужда ощущалась в знатоках немецкого. Однако в некоторых случаях отбирали и тех, кто хорошо знал английский. Таким образом, я был направлен в Военный институт иностранных языков в качестве слушателя. Буквально несколько дней спустя - это было уже в первой половине октября; когда немцы подходили к Москве - наш институт погрузили на пароход и отправили в небольшой городок, который тогда назывался Ставрополем-на-Волге. Там нас разместили в бывшем туберкулезном санатории. Все шесть месяцев, что я. пробыл там, я изнывал скуки. От всяких занятий меня освободили ввиду уровня моих познаний в области английского. В то же время отпускать меня в Москву начальник института генерал Биязи категорически отказывался, хотя периодически приходили запросы на слушателей со знанием английского. Видимо, он имел ввиду со временем использовать меня в качестве преподавателя. В апреле -1942 года, когда генерал уехал куда-то в командировку, пришел очередной запрос. Полковник, который исполнял обязанности начальника института, пошел навстречу моей просьбе и отправил в Москву в распоряжение управления кадров Генерального штаба. Однако оказалось, что и там не знали, что со мною делать. Тем временем генерал Биязи посылал телеграммы в Москву, требуя моего возвращения. Дело дошло до того, что я получил приказ возвращаться в Ставрополь; Меня в последний момент спасло то, что в учреждении под названием Советское информбюро была острая нужда в людях, хорошо знающих английский. язык. Я. был командирован туда на должность редактора-переводчика. Начальником Совинформбюро был генерал-полковник А. С. Щербаков, кандидат в члены Политбюро, секретарь МК и МГК, начальник Главного политуправления Красной Армии, его заместителем – С. А. Лозовский, который одновременно был заместителем народного комиссара иностранных дел. Совинформбюро имело двойную функцию: оно составляло и публиковало сводки о ходе военных действий и в то же время готовило и отправляло за рубеж различные публицистические материалы о Красной Армии, о помощи тыла фронту, о зверствах гитлеровцев на оккупированных территориях и т. д. Переводческой работы было очень много, а редакторов-переводчиков всего четверо, в том числе и я. Так я проработал около двух лет. Летом 1944 года между СССР, США и Великобританией была достигнута договоренность о создании совместного комитета по ведению психологической войны против Германии с месторасположением в Лондоне. Фактически это была попытка координировать пропаганду, которую три державы вели против Германии. Советский Союз в этом комитете должна была представлять группа из трех человек, в которую был включен и я в ранге атташе. Мы отправились в путь в начале августа. Поскольку война еще продолжалась, наш кружный маршрут пролегал через Баку, Тегеран, Каир и Касабланку. В конце августа мы, наконец, приземлились в лондонском аэропорту. На месте выяснилось, что наш комитет психологической войны очень напоминал крыловский квартет, позиции его участников слишком отличались друг от друга, чтобы они могли координировать пропаганду на Германию. А война тем временем продолжалась. Живя в Лондоне, это чувствовалось почти ежедневно. Станции метро на ночь по-прежнему заполнялись людьми, которые спали на трехэтажных нарах, построенных еще в 1940 году, когда начались массированные налеты немецких бомбардировщиков на Лондон. Теперь начались налеты ракет Фау-1. Они появлялись над городом, так сказать, поштучно, но практически каждую ночь, взрываясь то в одном, то в другом районе. Когда английские истребители научились их сбивать, наступил следующий этап: появились Фау-2. Это были уже баллистические ракеты. Поскольку они обладали гораздо большей скоростью, чем Фау-1, истребители были не в состоянии их сбивать, не было даже времени давать сигнал тревоги об их приближении. К тому же эти ракеты обладали значительно более мощной разрушительной силой, что делало жизнь лондонцев по-прежнему весьма неспокойной. Вскоре, однако, англо-американские войска достигли районов расположения немецких ракетных баз в северной Франции и Бельгии, и налеты прекратились. Прошло еще несколько месяцев, и наступил День Победы. Федин Александр Иванович обучался на курсах военных переводчиков в Ставрополе в 1941 г. С 1943 г. на фронте - переводчик маневренной группы 561 отдельного радиодивизиона, переводчик группы радиоразведки средствами связи 51-й армии. Воевал на Украине, в Крыму и окончил войну в Прибалтике. Федосюк Юрий Александрович, журналист. (1920, Москва - 1993, Москва), советский российский филолог и журналист. В 1937 поступил в ИФЛИ. Окончил институт в 1941, после чего пять лет служил в армии. С июня по сентябрь 1943 г. учился на курсах военных переводчиков при Военном институте иностранных языков Красной Армии в г.Ставрополь Куйбышевской области. По окончании института (январь 1944г.) служил военным переводчиком штаба 19 Армии 2 Белорусского фронта. С 1946 работал во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей (ВОКС), затем в Совинформбюро, Агентстве печати «Новости». Во время работы в ВОКСе начались москвоведческие исследования Федосюка, в чём ему помогал известный историк и москвовед Пётр Сытин. Статьи Федосюка о Москве публиковались в журналах «Вопросы истории», «Наука и жизнь» и др.Помимо этого, учёный занимался лингвистическими исследованиями, в частности, изучением фамилий, а в последние годы работал над книгой «Что непонятно у классиков? Трудные слова и понятия», которую закончил в 1989.Участвовал в деятельности Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Комиссии по истории московских улиц и других организаций. Выступал с лекциями о Москве. После войны - главный редактор АПН, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР, автор семи книг. Скончался в 1993 году, похоронен на Введенском кладбище. Фещенко Валентина Петровна родилась в 1921 г., обучалась на Военном факультете иностранных языков РККА в г.Ставрополь, после войны - старший препо-даватель исторического факультета МГУ. Окончил Великую Отечественную войну в Вене, в звании старшего лейтенанта. По окончании войны направлен в Берлин в распоряжение советской военной администрации в Германии. Демобилизован в ноябре 1947 г. Награжден боевыми медалями. После Великой Отечественной войны работал художником-мультипликатором, а с 1961 г. режиссером студии “Союзмультфильм”. Народный артист РСФСР (1977), народный артист СССР (1990), Лауреат Государственных премий (1976, 1980) и Премии Президента РФ (1998). Призер Международных и Всесоюзных фестивалей. Создал популярные рисованные фильмы: “Каникулы Бонифация” (1965), “Винни Пух” (серия мультфильмов, 1969-1972); оригинальные, острые и лаконичные по форме фильмы: “История одного преступления” (1962), “Человек в рамке” (1967), “Фильм, фильм, фильм...” (1968), “Остров” (1973), “Дарю тебе звезду” (1979). Преподавал на анимационном отделении Высших курсов сценаристов и режиссёров в Москве. Основатель мультипликационной школы-студии «Шар». Цвиллинг Михаил Яковлевич – адъюнкт и преподаватель ВИИЯ КА в годы войны. Профессор Московского государственного лингвистического университета Правда, в то время едва ли была хоть одна профессия, представители которой были полностью гарантированы от подобных обвинений со всеми вытекающими отсюда последствиями, а потому даже такие мрачные перспективы (тем более, что многое стало известно лишь спустя годы) не удерживали потенциальных профессионалов от выбора в пользу данного вида деятельности. К началу моего профессионального пути, т.е. к сороковым годам прошлого века, представители этого поколения, ряды которого сильно поредели в результате бурных событий 20-х - 30-х годов, продолжали еще занимать видное место в сообществе специалистов по иностранным языкам - в качестве переводчиков, преподавателей, редакторов, составителей словарей и т.п. Я до сих пор испытываю чувство глубокой благодарности к принадлежавшим, к этой категории моим учителям, таким, как незабвенный Александр Михайлович Таубе (отпрыск остзейского дворянского рода), вошедший в историю лексикографии как составитель ряда военных словарей, непревзойденный в своей педантичной приверженности к бескомпромиссной точности в деталях Борис Эммануилович Шванебах (достойный представитель фамилии обрусевших немцев, имевшей немалые заслуги перед Российским государством еще во времена Империи), блистательный знаток немецкого языка и литературы Александр Андреевич Лепинг (во время 1-й мировой войны - штабс-капитан Российской армии), фамилия которого стала впоследствии нарицательным обозначением немецко-русских словарей, и многим другим. Конечно, был и другой источник пополнения языковых (и переводческих) кадров - репатриировавшиеся в Советский Союз революционеры-эмигранты и их дети, а также (главным образом, уже в 30-х годах) антифашисты, спасавшиеся от диктаторских режимов Гитлера, Муссолини, Хорти, Антонеску, а позднее и Франко. Многие из них оставили заметный след в своей области деятельности. Так, из немецкоязычных специалистов хотелось бы назвать австрийца Тео Ауэрбаха. В годы Великой Отечественной войны по заданию легендарного генерала Н.Н. Биязи, начальника Военного института иностранных языков Красной Армии ( ВИИЯ КА , он создал уникальный разговорник-справочник бранных выражений и крепких словечек немецкого солдатского жаргона. Понятно, что фронтовым переводчикам, получившим еще в мирное время свою языковую подготовку под руководством интеллигентных старушек-»немок», именно таких коммуникативных средств больше всего недоставало для достижения желаемого «прагматического эффекта» при общении с военнопленными. Итак, как читатель понял, речь до сих пор шла о поколении, к которому принадлежат наставники автора, так что пора перейти к повествованию о некоторых моментах собственного профессионального пути. Мои сверстники, родившиеся в первой половине 20- х, это как бы первый эшелон «советских людей» - не в смысле «совок» или «homo sovieticus», а в объективно-историческом значении этого термина. Мы родились и сформировались в годы советской власти, и большинство из нас воспринимали тогдашние условия жизни, включая ее идеологическое обрамление, как естественные и неоспоримые. Разразившаяся война, нападение гитлеровской Германии на нашу родину - СССР - могла вызвать у нас единственную реакцию: немедленно принять участие в битве со смертельным врагом. Добровольное поступление на военную службу стало с первых дней войны массовым явлением, на этом, в частности, и основывалось формирование народного ополчения, что позволило хоть частично компенсировать роковое промедление в реализации мобилизационных планов. Для меня лично именно эти события оказались стимулом к выбору профессионального пути. Мне, правда, только должно было исполниться шестнадцать лет, и среднюю школу закончить я еще успеть не мог, но зато с детства свободно владел немецким языком: об этом позаботились мои родители, много лет проработавшие в загранпредставительствах Народного комиссариата внешней торговли. В августе 1941 г., только что получив паспорт, я подал заявление на курсы военных переводчиков при военном факультете 2-го МГПИИЯ (впоследствии на этой базе был сформирован ВИИЯ КА, ныне переводческий факультет Военного университета), куда и был зачислен как курсант-доброволец. Моя военная служба продолжалась 15 лет, в течение которых я не только учился и преподавал, но и выполнял самые разнообразные виды переводческой работы, включая трехмесячную боевую стажировку в начале 1945 г. на должности офицера-переводчика разведотдела штаба 42 стрелкового корпуса, воевавшего тогда в составе 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии. Однако весьма своеобразную деятельность военного переводчика целесообразнее осветить в специализированном издании, и здесь я на ней останавливаться не буду, тем более, что этот период моей «карьеры» частично освещен мною в журнале СПР «Мир перевода» («Как молоды мы были...», № 1/5, 2001 г., сс.40 - 53). На «широкую дорогу» в качестве переводчика я вышел вскоре после демобилизации, а точнее - в 1957 г., когда уже зрелым специалистом я, наконец, впервые попал в кабину синхронного переводчика. Профессиональное сообщество синхронистов сложилось в нашей стране, можно сказать, стихийно. Настоящее боевое крещение первое поколение получило во время Нюрнбергского процесса 1946 г. Именно эта бригада, старшим в которой был преподаватель ВИИЯ КА Евгений Абрамович Гофман, надолго стала костяком зарождающегося цеха. Как младший коллега по кафедре, я получил возможность непосредственно приобщиться к опыту Евгения Абрамовича и даже пройти под его руководством первичную ознакомительную тренировку». Государственном педагогическом институте иностранных языков, преподавала, в ВИИЯ КА в г. Ставрополь, в Военной Академии им. Фрунзе, до 1956 г. - вновь преподаватель ВИИЯ КА. С 1956 по 1982 г. - преподаватель, зав. кафедрой иностранных языков Военной Академии им. Дзержинского Шмайлов Николай Григорьевич Родился в 1922 г. В августе 1943 г. с Западного фронта направлен на курсы военных переводчиков при ВИИЯ КА. После окончания курсов в декабре 1943 г. вновь был направлен на фронт. Уволился в запас в 1972 г. в звании полковника. Работал в Агентстве печати “Новости” Шрайбер Исаак М. литературный переводчик. В составе действующей армии дошел до Польши, с октября 1945 г. обучался на французском отделении педагогического факультета ВИИЯ КА, который окончил с отличием, работал преподавателем на кафедре французского языка до весны Шумилова-Мицкевич Маргарита Михайловна родилась в 1922 г. в Кировской области. Училась на английском факультете 2-го МГПИИЯ. С октября 1941 г. обучалась на Военфаке в Ставрополе. С 1943 г. служила переводчиком в Генеральном штабе. В 1945 г. работала в США, преподавала английский язык офицерам Генерального штаба в Москве. После войны работала во Всесоюзном институте научной и технической информации, затем - в Центральном научно-исследовательском институте Атоминформ Министерства среднего машиностроения. В 1941 г. с 1 курса театрального училища им. Щукина призван в армию. Направлен для обучения на курсах военных переводчиков при Военном факультете иностранных языков Красной Армии в г. Ставрополь Куйбышевской области. С февраля 1942г. - заместитель начальника 70 укрепленного района Закавказского военного округа, с 86 начала 1943 г. - военный переводчик, помощник начальника штаба 581 стрелкового полка 151 стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта, до октября 1943 г. - заместитель начальника штаба ПМШ-1 полка в Запорожье. В октябре 1943 г. был ранен и комиссован. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью “За освобождение Кавказа”. После войны окончил театральное училище им. Щукина, с 1945 г. актер театра им. Вахтангова. Владимир Абрамович Этуш ведет большую педа-гогическую деятельность: с 1945 г. он преподаватель театрального училища им. Щукина, с 1965 г. - доцент, ныне - профессор, ректор училища. Народный артист РСФСР (1964), Народный артист СССР (1984). Лауреат Премии «Хрустальная Турандот» (1994), Лауреат Государственной Премии РФ в области литературы и искусства (2001), награжден орденами За хаслуги перед Отечеством II и III, IY степени (1995, 2003, 2008). Роли в театре: Годунов (“Великий государь” Соловьева), Макс Вентер (“Заговор обреченных” Вирты), гаулейтер Рогге (“Кому подчиняется время” братьев Тур и Шей-нин), Лаунс (“Два веронца” Шекспира,1952), Блендербленд (“Миллионерша” Шоу), Купо (“Западня” Э. Золя), Журден (“Мещанин во дворянстве” Мольера,1968), Отто Марвулья (“Великая магия” Э.Де Филиппо, 1979). Снимался в кинофильмах: “Кавказская пленница” (1967), “Приключения Буратино” (1975), “Иван Васильевич меняет профессию”. Первоначально обучался музыке под руководством отца - марийского композитора и фольклориста Якова Андреевича Эшпая. В 1941-1942гг. учился на курсах военных переводчиков при Военном факультете иностранных языков Красной Армии в г. Ставрополь Куйбышевской области. А.Я. Эшпай: «Я много выступал в госпиталях, аккомпанировал певцам и, глядя на раненых, видел, как они рады нам как моя музыка нужна им». В 1943 году Андрей Эшпай поступил в Чкаловское пулеметное училище, выпускники которого направлялись на фронт. Однажды в училище приехали набирать студентов представители открывшегося в Ставрополе Военного института иностранных языков (ВИИЯ). Андрей, с детства владевший немецким, оказался в числе пяти курсантов, отобранных комиссией. Вскоре Институт переезжает в Москву, а в 1944 году девятнадцатилетний Эшпай с дипломом военного переводчика попадает на 1-й Белорусский фронт во взвод разведки. Он воевал в Польше и Германии. Бои были жестокие, особенно под Берлином и в самом городе. До сих пор, спустя почти тридцать лет после окончания войны, композитор помнит фронтовых друзей своей юности. И сейчас еще композитор иногда неожиданно находит своих боевых друзей. А. Эшпай вспоминает: «Дружба бойцов – совершенно особое чувство, я хорошо понял это там, под Берлином. «Я» - само это понятие исчезает, остается только – «мы». У меня были два любимых друга – Володя Никитинский из Архангельска и Гена Новиков из Ташкента. Мы были неразлучны, не раз выручали друг друга. Оба они прошли всю войну и погибли в боях за Берлин, в в последние часы войны». В 1953 г. окончил Московскую государственную консерваторию по классу композиции у Е.К. Голубева и по классу фортепиано у В.В. Софроницкого. По композиции совершенство-вался там же в аспирантуре у А.И. Хачатуряна. К лучшим достижениям композитора при-надлежит балет “Ангара” (1976). Автор 4 симфоний (1959, 1962, 1965, 1978), концертов для оркестра, для фортепиано с оркестром (1954, 1967, 1972), для скрипки с оркестром (1956, 1977). 1-й секретарь правления Союза композиторов РСФСР с 1973 г. Лауреат Государственной премии (1976), награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды. Лауреат премий 5-го и 6-го Международного фестиваля демократической молодежи и студентов. Заслуженный деятель искусств Марийской АССР (1961) и Якутской АССР (1964), Народный артист СССР (1981), Лауреат Ленинской Премии (1986). Член Международного музыкального совета при ЮНЕСКО (1977). Почетный член Общества им. Ф. Листа (1979, США). Преподаватель Московской государственной консерватории. Источник: http://www.tgl.ru/files/files/front_sudb_lobanova_112009_file_1360137667.pdf 07.05.2015 к архиву новостей |
| © 2000-2018 TLS Москва. Все права защищены. |

|